Томас Гоббс
Левиафан,
или
Материя, форма и власть государства церковного и гражданского
1651 г.
Перевод с английского А. Гутермана
Содержание
Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из ГодольфинаВведение
Часть I. О человеке
Глава I. Об ощущенииГлава II. О представлении
Глава III. О последовательности или связи представлений
Глава IV. О речи
Глава V. О рассуждении и знании
Глава VI. О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых они выражаются
Глава VII. О последних пунктах или решениях речи
Глава VIII. О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках
Глава IX. О различных предметах знания
Глава X. О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности
Глава XI. О различии манер
Глава XII. О религии
Глава XIII. О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей
Глава XIV. О первом и втором естественном законе и о договорах
Глава XV. О других естественных законах
Глава XVI. О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах
Часть II. О государстве
Глава XVII. О причинах государства, об его возникновении и его определенииГлава XVIII. О правах суверенов в государствах, основанных на установлении
Глава XIX. О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти
Глава XX. Об отеческой и деспотической власти
Глава XXI. О свободе подданных
Глава XXII. О подвластных корпорациях, политических и частных
Глава XXIII. О политических служителях верховной власти
Глава XXIV. О питании государства и о произведении им потомства
Глава XXV. О совете
Глава XXVI. О гражданских законах
Глава XXVII. О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах
Глава XXVIII. О наказаниях и наградах
Глава XXIX. О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду
Глава XXX. Об обязанностях суверена
Глава XXXI. О царстве Бога при посредстве природы
Часть III. О христианском государстве
Глава XXXII. О принципах христианской политикиГлава XXXIII. О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания
Глава XXXIV. О значении слов: «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания
Глава XXXV. О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»
Глава XXXVI. О Слове Божьем и о пророках
Глава XXXVII. О чудесах и об их употреблении
Глава XXXVIII. О том, что понимается в писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением
Глава XXXIX. О том, что понимается в писании под словом «церковь»
Глава XL. О правах Царства Божия при Аврааме, Моисее, первосвященниках и царях иудейских
Глава XLI. О миссии нашего Святого Спасителя
Глава XLII. О церковной власти
Глава XLIII. О необходимом условии для принятия человека в Царство Небесное
Часть IV. О царстве тьмы
Глава XLIV. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования писанияГлава XLV. О демонологии и о других пережитках религии язычников
Глава XLVI. О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций
Глава XLVII. О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается
Обозрение и заключение
Моему высокочтимому другу мистеру Франсису Годольфину из Годольфина
Уважаемый Сэр!
Вашему достойнейшему брату Сиднею Годольфину угодно было при жизни признавать за моими научными работами некоторую ценность, а также и другим образом, как вы знаете, обязать меня знаками своего доброго мнения, ценными сами по себе и особенно ценными благодаря достоинствам его личности. Ибо все добродетели, располагающие человека к служению Богу или к служению своей стране, к гражданскому общежитию или к личной дружбе, ярко проявлялись в его личности не как нечто, приобретенное в силу необходимости, и не как порождение случайного аффекта, а как нечто присущее ему и проникающее благородный строй его натуры. Поэтому в знак уважения и благодарности к нему и преданности к вам самим я смиренно посвящаю вам этот мой трактат о государстве. Я не знаю, как свет примет этот труд и что этот свет будет думать о тех, кого он будет считать его покровителями. Ибо по дороге, осажденной борющимися армиями, из которых одна борется за слишком большую свободу, а другая – за слишком широкие полномочия власти, трудно пройти неизувеченным между линиями обеих. Однако мне думается, что стремление поднять авторитет гражданской власти не будет осуждено гражданской властью и что этого стремления не будут порицать также частные люди, заявляя, что они эту власть считают чрезмерной. Впрочем, я говорю не о людях у власти, а (абстрактно) о седалище власти (наподобие тем простодушным и беспристрастным существам в римском Капитолии, которые своим шумом спасли находившихся внутри Капитолия не потому, что это были именно данные лица, а лишь потому, что они были там), нанося вред, как я полагаю, лишь тем, кто находится вне этого Капитолия, или тем, кто, находясь внутри, содействует находящимся вне его. Больше всего, может быть, способно вызвать недовольство то обстоятельство, что я некоторые тексты Священного Писания использую в других целях, чем те, в которых они обыкновенно используются другими авторами. Но я это делал с достодолжным смирением, а также в силу необходимости (диктуемой задачей моего труда), ибо эти тексты являются передовыми позициями врага, с которых он атакует гражданскую власть. Если, несмотря на все, вы увидите, что мой труд встречает всеобщее порицание, то да будет благоугодно вам оправдать себя, заявляя, что я – человек, любящий свои собственные взгляды, и что я считаю истиной все то, что я говорю, что я уважал вашего брата и уважаю вас и осмелился на этом основании присвоить себе (без вашего ведома) право считать себя вашим, сэр, смиреннейшим и покорнейшим слугой.
Париж, апрель 15/25 1651.
Т. Гоббс
Введение
Человеческое искусство является подражанием природе (искусству, при помощи которого Бог создал мир и управляет им) как во многих других отношениях, так и в том, что оно умеет делать искусственное животное. Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в какой-нибудь основной внутренней части, не можем ли мы разве сказать, что все автоматы (механизмы, движущиеся при помощи пружин и колес, как, например, часы) имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы, как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер? Впрочем, человеческое искусство идет еще дальше, имитируя разумное и наиболее превосходное произведение природы – человека. Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется государством (по-латыни Civitas) и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны и защиты которого он был создан. В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, является искусственной душой; магистрат и другие представители судебной и исполнительной власти являются искусственными суставами; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi (безопасность народа) – его занятие; советники, внушающие ему все то, что ему необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы представляют собой искусственный разум и волю; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь; гражданская война – смерть. Наконец договоры и соглашения, при помощи которых были первоначально созданы, сложены вместе и объединены части политического тела, похожи на то fiat (да будет!) или на «Сотворим человека», которые были произнесены Богом при акте творения.
Чтобы описать природу этого искусственного человека, я буду рассматривать:
- во-первых, материал, из которого он сделан, и его мастера, то есть человека;
- во-вторых, как и путем какого соглашения он был создан, каковы точно права и власть или авторитет суверена; то, что сохраняет государство и что приводит его к распаду;
- в-третьих, что такое христианское государство, наконец, что такое царство тьмы.
В отношении первого пункта в последнее время широко пошла в ход поговорка, что мудрость приобретается не чтением книг, а чтением людей. Вследствие этого те лица, которые по большей части не могут представить никакого другого доказательства своей мудрости, рады показать, что они, по их мнению, вычитали в людях, немилосердно порицая друг друга за глаза. Есть, однако, другая поговорка, которую в последнее время перестали понимать и следуя которой указанные лица, если бы они дали себе труд, могли бы действительно научиться читать друг друга. Это именно афоризм nosce te ipsum (познай самого себя), читай самого себя. Смысл этого афоризма сводился не к тому, чтобы, как это стало теперь обыкновением, поощрять людей, власть имущих, к варварскому отношению к людям, стоящим ниже их, или подстрекать людей низкого состояния к дерзкому поведению по отношению к людям вышестоящим, а к тому, чтобы поучать нас, что (в силу сходства мыслей и страстей одного человека с мыслями и страстями другого) всякий, кто будет смотреть внутрь себя и соображать, что он делает, когда он мыслит, предполагает, рассуждает, надеется, боится и т. д. и по каким мотивам он это делает, будет при этом читать и знать, каковы бывают при подобных условиях мысли и страсти всех других людей. Я говорю о сходстве самих страстей, которые одинаковы у всех людей, как расположение, страх, надежда и т. п., а не о сходстве объектов этих страстей, то есть вещей, которых желают, боятся, на которые надеются и т. п., ибо последние варьируют в зависимости от индивидуального устройства человека и особенностей его воспитания и легко ускользают от нашего познания; так что буквы человеческой души, замаранные и запутанные обычно притворством, ложью, лицемерием и ошибочными доктринами, разборчивы только для того, кто ведает наши сердца. И хотя при наблюдении действий людей мы можем иногда открыть их намерения, однако делать это без сопоставления с нашими собственными намерениями и без различения всех обстоятельств, могущих внести изменения в дело, все равно что расшифровывать без ключа, и в большинстве случаев это значит быть обманутым или в силу слишком большой доверчивости, или в силу слишком большого недоверия в зависимости от того, является ли сам читатель в человеческих сердцах хорошим или плохим человеком.
Впрочем, как бы превосходно один человек ни читал в другом на основе его действий, он это может осуществить лишь по отношению к своим знакомым, число которых ограничено. Тот же, кто должен управлять целым народом, должен путем чтения в себе самом познать не того или другого отдельного человека, а человеческий род. И хотя это трудно сделать, труднее чем изучить какой-нибудь язык или какую-нибудь отрасль знания, однако, после того как я изложу мое чтение в себе самом в методической и ясной форме, другим останется лишь труд рассмотреть, не находят ли они то же самое также в себе самих. Ибо этого рода объекты познания не допускают никакого другого доказательства.
Часть I
О человеке
Глава I
Об ощущении
Что касается человеческих мыслей, то я их буду рассматривать сначала раздельно, а затем в их связи или в их взаимной зависимости. Взятые раздельно, каждая из них есть представление или призрак какого-либо качества или другой акциденции тела вне нас, называемого обыкновенно объектом. Объект действует на глаза, уши и другие части человеческого тела и в зависимости от разнообразия своих действий производит разнообразные призраки.
Начало всех призраков есть то, что мы называем ощущением (ибо нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частью, в органах чувств). Все остальное есть производное из него.
Для понимания вопросов, трактуемых в настоящей книге, знание естественной причины ощущения не очень необходимо, да я и писал об этом подробно в другом месте. Тем не менее, чтобы развить каждую часть моей настоящей системы, я изложу сказанное там вкратце и здесь.
Причиной ощущения является внешнее тело, или объект, который давит на соответствующий каждому ощущению орган непосредственно, как это бывает при вкусе и осязании, или посредственно, как при зрении, слухе и обонянии. Это давление, продолженное внутрь при посредстве нервов и других волокон и перепонок тела до мозга и сердца, вызывает здесь сопротивление, или обратное давление, или усилие сердца освободиться. Так как это усилие направлено вовне, то оно кажется нам чем-то находящимся вовне. Вот это кажущееся (seeming), или этот призрак, люди называют ощущением. В отношении глаза это есть ощущение света или определенного цвета, в отношении уха – ощущение звука, в отношении ноздрей – ощущение запаха, в отношении языка и нёба – ощущение вкуса, а для всего остального тела – ощущение жары, холода, т в ердо сти, мягкости и всяких других качеств, которые мы различаем при помощи чувства. Все эти так называемые чувственные качества являются лишь разнообразными движениями материи внутри вызывающего их объекта, движениями, при посредстве которых он различным образом давит на наши органы. Точно так же и в нас, испытывающих давление, эти качества являются не чем иным, как разнообразными движениями (ибо движение производит лишь движение). Но то, чем они нам кажутся наяву, точно так же как и во сне, есть призрак. И подобно тому, как давление, трение или ушиб глаза вызывают в нас призрак света, а давление на ухо производит шум, точно так же и тела, которые мы видим или слышим, производят то же самое своим сильным, хотя и не замечаемым нами действием. В самом деле, если бы те цвета или звуки были в телах или объектах, которые их производят, они не могли бы быть отделены от них, как мы это наблюдаем при отражении в зеркале или в эхо, где мы знаем, что объект, который мы видим, находится в одном месте, а призрак в другом. И хотя на определенном расстоянии представляется, будто наша фантазия заключается в реальном и действительном объекте, который ее в нас порождает, тем не менее объект есть одно, а воображаемый образ или призрак – нечто другое.
Таким образом, ощущение во всех случаях есть по своему происхождению лишь призрак, вызванный, как я сказал, давлением, то есть движением находящихся вне нас объектов на наши глаза, уши и другие предназначенные для этого органы.
Во всех университетах христианского мира философские школы, основываясь на некоторых текстах Аристотеля, учат, однако, другой доктрине. В отношении причины зрения они говорят, что видимая вещь посылает во все стороны species visible, по-английски visible shew, призрак, аспект или видимое видение, проникновение которого в глаз есть зрение. А в отношении причины слуха они говорят, что слышимая вещь посылает species audible, то есть слышимый аспект или слышимое видение, проникновение которого в ухо производит слух. Более того, в отношении причины понимания они также говорят, что понятая вещь посылает species intelligible, то есть умственное видение, проникновение которого в рассудок производит ваше понимание1. Я говорю это не для отрицания пользы университетов. Но так как мне придется после говорить об их роли в государстве, я не должен пропустить случая попутно показать вам, каковы их недостатки, а одним из них является частое употребление ничего не значащих слов.
1 Тут имеется игра слов, которой Гоббс пользуется для высмеивания схоластов (species по-латыни обозначает видение, вид).
Глава II
О представлении
Никто не сомневается в той истине, что вещь, находящаяся в состоянии покоя, навсегда останется в этом состоянии, если ничто другое не будет двигать ее; но нелегко соглашаются с тем, что вещь, находящаяся в состоянии движения, всегда будет в движении, если ничто другое не остановит ее, хотя основание в первом и во втором случае одно и то же (а именно, что ни одна вещь не может сама менять свое состояние). Объясняется это тем, что люди судят по себе не только о других людях, но и о всех других вещах, и, так как они находят, что после движения они чувствуют боль и усталость, они полагают, что всякая вещь устает от движения и ищет по собственному влечению отдыха; при этом рассуждающие так не спрашивают себя, не есть ли само это желание покоя, которое они в себе находят, другое лишь движение. Исходя из только что указанных соображений, школьная мудрость говорит, что тяжелые тела падают вниз из стремления к покою и из желания сохранить свою природу в таком месте, которое наиболее пригодно для них. Они таким образом бессмысленно приписывают неодушевленным вещам стремление и знание того, что пригодно для их сохранения (познание большее, чем то, которым обладает человек).
Раз тело находится в движении, оно будет двигаться (если ничто не помешает этому) вечно; и что бы ни препятствовало этому движению, оно не прекратит его окончательно в одно мгновение, а лишь в определенный промежуток времени и постепенно. И подобно тому, как мы наблюдаем в воде, что волны продолжают еще катиться долгое время, хотя ветер уже стих, то же самое бывает с тем движением, которое производится во внутренних частях человека, когда он видит, когда ему снится и т. д. Ибо, после того как объект удален или глаз закрыт, мы все еще удерживаем образ виденной вещи, хотя в более смутных очертаниях, чем тогда, когда мы ее видим. И это именно то, что римляне называют imaginatio (воображение) от образа, полученного при созерцании, применяя это слово, хотя и неправильно, ко всем другим ощущениям. Но греки называют это φαντασία, что означает призрак и что применимо как к одному, так и к другому ощущению. Воображение есть поэтому лишь ослабленное ощущение и присуще как людям, так и другим живым существам, как во сне, так и наяву.
Ослабление ощущения у бодрствующих людей не есть ослабление движения, произведенного при ощущении, а лишь затемнение его подобно тому, как свет солнца затемняет свет звезд. Последние днем не в меньшей степени, чем ночью, проявляют те качества, благодаря которым они бывают видимы, но так как из всех раздражений, которые наши глаза, уши и другие органы получают от внешних тел, чувствительным бывает лишь преобладающее, то ввиду преобладания света солнца мы не ощущаем действия звезд. Вот почему, если какой-нибудь объект удаляется от наших глаз, то, хотя впечатление, произведенное им, остается все же, ввиду того что его место заступают другие более близкие объекты, которые действуют на нас, представление прежнего объекта затемняется и слабеет подобно тому, как это бывает с человеческим голосом в шуме дня.
Отсюда следует, что чем длительнее время, протекшее после акта зрения или ощущения какого-нибудь объекта, тем слабее представление, так как непрерывное изменение человеческого тела разрушает в течение времени частицы, находящиеся в движении в акте ощущения. Расстояние во времени и в пространстве, таким образом, на нас оказывает одинаковое действие. Подобно тому, как предметы, видимые нами на большом расстоянии, представляются нам тусклыми и без выделения мелких частей, а слышимые голоса становятся слабыми и не расчлененными, так точно после большого промежутка времени слабеет наше представление прошлого, и мы теряем (к примеру) от виденных нами городов отдельные улицы, а от событий, при которых мы присутствовали, многие отдельные обстоятельства. Ослабленное ощущение мы называем представлением, когда желаем обозначить самую вещь (я разумею представить самую ее), но если мы желаем выразить факт ослабления и обозначить, что ощущение поблекло, старо и отошло в прошлое, мы называем его воспоминанием. Таким образом, представление и воспоминание обозначают одну и ту же вещь, которая лишь в зависимости от рассмотрения ее с разных сторон имеет разные названия.
Много воспоминаний или воспоминание многих вещей называется опыт ом. Опять-таки, так как мы имеем представление лишь о тех вещах, которые мы раньше восприняли ощущением целиком, сразу или по частям в разное время, то в первом случае (когда мы представляем весь объект, как он представился ощущению) мы имеем простое представление, на пример, когда мы представляем себе человека или лошадь, которых мы раньше видели, во втором же случае мы имеем сложное представление, как, например, когда мы от созерцания человека в одно время и лошади в другое время образуем в уме представление кентавра. Таким образом когда человек складывает представление своей собственной личности с представлением действий другого человека, воображая себя, например, Геркулесом или Александром (что часто случается с теми, которые слишком отдаются чтению романов), то мы имеем сложное представление и, собственно говоря, умственную фикцию. Бывают также другие представления, возникающие в людях (хотя и бодрствующих) от слишком сильного воздействия на ощущение. Так, например, если мы загляделись на солнце, впечатление оставляет образ солнца перед нашими глазами долгое время спустя, точно так же человек, долго и интенсивно работавший над геометрическими фигурами, будет (хотя и бодрствуя) в темноте иметь перед глазами образы линий и углов. Так как этот род представлений обыкновенно не приходится к слову в разговорах людей, то он и не имеет особого названия.
Представления спящих мы называем снами. Эти последние (как все другие представления) были также раньше целиком или частями в ощущении. И так как в отношении ощущения необходимые органы ощущения, мозг и нервы, так скованы сном, что они нелегко могут быть движимы действием внешних объектов, то представления в моменты сна, а следовательно, сны могут иметь место лишь постольку, поскольку они проистекают из движения внутренних частей человеческого тела. Когда эти внутренние части бывают раздражены, то они в силу их связи с мозгом и другими органами держат последние в состоянии движения, ввиду чего прежде приобретенные представления появляются, как если бы человек бодрствовал, и раз органы ощущения так скованы, что нет ни одного нового объекта, который мог бы овладеть ими и затемнить эти представления более сильным впечатлением, то сны по необходимости должны быть более ярки при этом бездействии ощущений, чем наши представления наяву. Отсюда проистекает трудность, а в отношении многих представлений невозможность точного различения между ощущением и сном. Что касается меня, то, принимая во внимание, что во сне я не часто и не последовательно думаю о лицах, местах, объектах и действиях, как я делаю это наяву, и что не припоминаю во сне такого длинного ряда связанных мыслей, как в другое время, а также ввиду того, что в бодрствующем состоянии я часто замечаю нелепости моих снов, но никогда не думаю во сне о нелепости моих мыслей наяву, – исходя из всего этого, я вполне убежден, что, находясь в бодрствующем состоянии, я не во сне, хотя во сне я воображаю себя бодрствующим.
Так как мы видим, что сны порождаются раздражением некоторых из внутренних частей тела, то разные раздражения должны по необходимости вызвать различные сны. Вот почему лежание в холоде порождает сны страха и вызывает представление и образ какого-нибудь страшного объекта (так как движение от мозга к внутренним частям и от внутренних частей к мозгу бывает взаимно); и так как гнев порождает жар в некоторых частях тела, когда мы бодрствуем, то слишком сильное нагревание тех же частей, когда мы спим, порождает гнев и вызывает в мозгу образ врага. Точно таким же образом так как естественная красота вызывает желание, когда мы бодрствуем, а желание порождает жар в некоторых других частях тела, то слишком большой жар в этих частях, когда мы спим, вызывает в мозгу красивые образы. Коротко говоря, наши сны – это обратный порядок наших представлений наяву. Движение в бодрствующем состоянии начинается на одном конце, а во сне – на другом конце.
Труднее всего отличить сон человека от его мыслей наяву, когда мы по какой-нибудь случайности не замечаем, что мы спали, что легко может случиться с человеком, которого тяготят страшные мысли и сильные укоры совести, а также с человеком, который спит без того, чтобы раздеться и лечь в постель, например, с тем, кто дремлет, сидя в кресле. Ибо если какое-нибудь необычайное и необъяснимое явление представится тому, кто дает себе труд раздеться и старательно приготовляется ко сну, то последний нелегко примет это за нечто другое, чем сон. Мы читаем о Марке Бруте (человек, которому Юлий Цезарь спас жизнь и который был также фаворитом последнего и, тем не менее, убил его), что он при Филиппах в ночь накануне сражения, данного им Августу Цезарю, видел ужасное явление, о котором историки обыкновенно рассказывают как о видении. Но, принимая в соображение обстоятельства, можно легко догадаться, что это был лишь короткий сон. В самом деле, сидя в своей палатке, задумчивый и преследуемый ужасом своего безрассудного деяния, он легко мог, вздремнув в прохладе, видеть сон о том, что его более всего ужасало, каковой ужас, по мере того как он постепенно заставлял Брута просыпаться, неизбежно должен был также заставлять постепенно исчезать. Брут же, не имевший уверенности в том, что он спал, не мог иметь никакого основания считать свое представление сном или чем-либо иным, чем видением. И такие случаи очень нередко бывают, ибо даже совершенно бодрствующие люди, если они трусливы и суеверны, начинены всякими страшными сказками и находятся одни в темноте, подвержены подобного рода иллюзиям и верят, что видят бродящих по кладбищу духов и привидения умерших людей, между тем как это лишь фантазия или же проделка некоторых лиц, которые пользуются подобным суеверным страхом, чтобы пройти ночью переодетыми в такие места, о посещении которых они не желали бы, чтобы стало известно.
И от этого незнания, как отличить сны и другие яркие представления от видений и ощущений, возникла в прошлом наибольшая часть религий язычников, поклонявшихся сатирам, фавнам, нимфам и т. п., а в настоящее время это незнание является источником тех представлений, которые невежественные люди имеют о русалках, привидениях и домовых и о силе ведьм. Ибо, что касается ведьм, я полагаю, что их колдовство не является реальной силой, и тем не менее я думаю, что они справедливо наказываются за их ложную уверенность, будто они способны причинить подобное зло, – уверенность, соединенную с намерением причинить это зло, буде они на то способны. Их колдовство ближе к новой религии, чем к искусству и науке. Что же касается русалок и бродячих привидений, то я полагаю, что такие взгляды распространялись или не опровергались с целью поддерживать веру в пользу заклинания бесов, крестов, святой воды и других подобных изобретений духовных лиц. Не приходится, конечно, сомневаться в том, что Бог может сотворить сверхъестественные явления. Но что Бог это делает так часто, что люди должны бояться таких вещей больше, чем они боятся приостановки или изменения хода природы, который Бог тоже может совершить, – это не является догматом христианской веры. Но под тем предлогом, что Бог может сотворить всякую вещь, дурные люди смело утверждают все что угодно, хотя бы они сами считали это неверным, если только это служит их целям. Разумный человек должен верить этим людям лишь постольку, поскольку правильное рассуждение заставляет считать правдоподобным то, что они говорят. Если бы этот суеверный страх духов был устранен и вместе с ним предсказывания на основании снов, ложные пророчества и другие, связанные с этим вещи, при помощи которых хитрые и властолюбивые люди околпачивают простодушный народ, люди были бы более склонны повиноваться гражданской власти, чем это имеет место теперь.
Искоренение таких предрассудков должно было быть делом школ, но последние скорее питают такие доктрины. Ибо (не зная, что такое представление или ощущение) они учат по традиции: одни говорят, что представления возникают сами от себя и не имеют никакой причины, другие – что они обыкновенно порождаются волей и что добрые мысли вдыхаются в человека (внушаются последнему) Богом, а злые мысли – дьяволом, или что добрые мысли влиты в человека Богом, а злые – дьяволом. Некоторые говорят, что ощущения получают образы вещей и передают их общему ощущению, а общее ощущение передает их воображению, а воображение – памяти, а память – способности суждения, точно вещи, переходящие из рук в руки, все это словеса, которые ничего не объясняют.
Представление, которое вызывается в человеке (или в каком-нибудь другом существе, одаренном способностью иметь представления) словами или другими произвольными знаками, есть то, что мы обыкновенно называем пониманием, и оно присуще человеку и животному. Ибо собака по привычке будет понимать зов или порицание своего хозяина, точно так же многие другие животные. Понимание же, составляющее специфическую особенность человека, состоит в понимании не только воли другого человека, но и его идей и мыслей, поскольку последние выражены последовательным рядом имен (названий) вещей, соединенных в утверждения, отрицания и другие формы речи. О понимании этого рода я буду говорить ниже.
Глава III
О последовательности или связи представлений
Под последовательностью или связью представлений я разумею то следование представлений одно за другим, которое называют (в отличие от речи, выраженной словами) речью в уме.
Когда человек представляет себе какую-нибудь вещь, то непосредственно следующее за этим представление не является совершенно случайным, как это кажется. Не всякое представление следует за всяким другим представлением безразлично. Напротив, подобно тому, как мы не имеем никакого представления о том, чего не было когда-то целиком или частью в нашем ощущении, точно так же мы не имеем перехода от одного представления к другому, если мы никогда не имели подобного перехода в наших ощущениях. Это имеет следующее основание. Все представления суть движения внутри нас, являющиеся остатками движений, произведенных в ощущении, и те движения, которые непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают следовать в том же порядке и по исчезновении ощущения, так что, если предыдущее движение снова имеет место и является преобладающим, последующее, в силу связанности движимой материи, следует за ним таким же образом, как вода на гладком столе следует в том направлении, в котором какая-либо капля ее водится пальцем. Однако так как за одной и той же воспринятой вещью в ощущении иногда следует одна вещь, а иногда другая, то с течением времени случается, что, представляя себе одну вещь, мы не можем сказать с уверенностью, какое будет наше ближайшее представление. Одно лишь можно с уверенностью сказать, а именно что это будет нечто, следовавшее за имеющимся у нас представлением в то или другое время раньше.
Связь представлений или речь в уме бывает двоякого рода. Первого рода связь неурегулирована, не скреплена определенным намерением и не постоянна; в ней нет захватывающего представления, которое владело бы следующими за ним представлениями и направляло бы их к себе как к желательной и страстной цели. В таком случае представления, как говорят, блуждают и кажутся неподходящими одно к другому подобно тому, как это бывает во сне. Таковы обыкновенно бывают мысли тех людей, которые не только находятся вне общества, но и ничем определенным не озабочены. И хотя в таком состоянии их мысль работает, как в другое время, но без всякой гармонии, как звуки, которые издает расстроенная лютня или настроенная под руками того, кто не умеет играть. Однако и в этой беспорядочной скачке мыслей можно часто открыть определенное направление и определенную зависимость одной мысли от другой. Например, казалось бы, что может быть нелепее, как задать вопрос (как это один собеседник сделал), в разговоре о настоящей гражданской войне, о том, какова была ценность римского сребреника? Однако для меня связь была вполне очевидна. Именно мысль о войне повела к мысли о выдаче короля его врагам, а эта мысль повлекла за собой мысль о предательстве Христа, а это, в свою очередь, навело на мысль о 30 сребрениках, которые были ценой предательства, и отсюда легко вытекал приведенный ядовитый вопрос, и все это в течение одного мгновения, ибо мысли текут быстро.
Второго рода связь более постоянна, так как она регулируется каким-нибудь желанием или намерением. Ибо впечатление, произведенное вещью, которой мы желаем или боимся, сильно и перманентно или (если оно на некоторое время исчезло) быстро возвращается; оно иногда бывает настолько сильно, что не дает нам спать. От желания возникает мысль о некоторых средствах, при помощи которых мы видели осуществленным нечто подобное тому, к чему мы стремимся, и от этой мысли – мысль о средствах для достижения этих средств и так далее, пока мы не доходим до некоего начала, находящегося в нашей собственной власти. И так как цель благодаря силе произведенного ею впечатления часто приходит на ум, то если мысли начинают блуждать, они быстро приводятся снова в порядок. Это было замечено одним из семи мудрецов и побудило его предписать людям то правило, которым теперь пренебрегают, а именно respice finem. Это значит: во всех ваших действиях часто имейте перед глазами то, чего вы хотите достигнуть, как ту вещь, которая направляет все ваши мысли на путь к его достижению.
Связь регулированных мыслей бывает двоякого рода. Связь одного рода мы имеем тогда, когда мы от какого-нибудь воображаемого следствия ищем причин или средств, производящих его, и такая связь мыслей присуща как человеку, так и животному. Связь другого рода мы имеем тогда, когда, воображая какую-нибудь вещь, мы ищем всех тех эффектов, которые могут быть произведены при помощи этой вещи, иначе говоря, мы представляем себе, что мы можем делать с этой вещью, когда мы владеем ею. Признаков этого рода связи мыслей я ни у кого другого, кроме как у человека, никогда не наблюдал, ибо такого рода любопытство вряд ли присуще какому-нибудь живому существу, имеющему лишь чувственные страсти, каковы голод, жажда, похоть и гнев. Коротко говоря, речь в уме, если она управляется какой-нибудь целью, есть лишь искание или способность к открытиям, то, что римляне называют sagacitas и solerita, выискивание причин какого-нибудь настоящего или прошлого следствия или следствий какой-нибудь настоящей или прошлой причины. Бывает иногда, что человек ищет то, что он потерял; от того места и момента, где и когда он впервые заметил пропажу, он мысленно перебегает в обратном направлении с места на место и с одного момента времени к другому, чтобы найти, где и когда он это потерял, то есть чтобы найти определенные и ограниченные моменты времени и пространства, с которых надо начать систематические поиски. Отсюда его мысль снова пробегает те же места и моменты, чтобы найти, какой акт или какой случай были причиной его потери. Это мы называем воспоминанием или вызыванием в памяти. Римляне называют это reminiscentia, как если бы это было воспроизведением в сознании наших прежних действий. Бывает иногда, что человек знает определенное место, в пределах которого ему следует искать; тогда он мысленно пробегает по всем его частям таким же образом, как кто-нибудь, потерявший драгоценность, стал бы искать ее, пробегая с места на место по комнате, или же как гончая рыщет по полю, пока не найдет следа, или как человек пробегает алфавитный реестр, чтобы отыскать рифму.
Иногда человек желает знать последствия какого-нибудь действия, и тогда он представляет себе какое-нибудь аналогичное действие в прошлом и его результаты, предполагая, что одинаковое действие приводит к одинаковым последствиям. Так, например, тот, кто предвидит, что последует за преступлением, вспоминает, какие последствия подобного преступления он наблюдал раньше, имея при этом следующий ход представлений: преступление, агенты власти, тюрьма, судья, виселица. Этот род мыслей называется предвидением и благоразумием или предусмотрительностью, а иногда мудростью, хотя такая догадка благодаря трудности наблюдать все обстоятельства бывает очень обманчива. Одно, однако, несомненно: чем богаче опыт одного человека в отношении прошлых вещей, чем опыт другого, тем он более благоразумен, и его ожидания реже его обманут. Только настоящее имеет бытие в природе, прошлые вещи имеют бытие лишь в памяти, а будущие вещи не имеют никакого бытия. Будущее есть лишь представление ума, применяющего последствия прошлых действий к действиям настоящим, что с наибольшей уверенностью делается тем, кто имеет наибольший опыт. Однако не с абсолютной уверенностью. И хотя мы говорим о благоразумии, когда, результат отвечает нашему ожиданию, однако по существу это есть лишь презумпция, ибо предвидение будущих вещей, которое есть провидение, присуще лишь тому, чьей волей это будущее должно быть вызвано к жизни. Лишь от него одного и сверхъестественным путем исходит пророчество. Лучший пророк естественно является лучшим угадчиком, а лучшим угадчиком является тот, кто больше всего сведущ и искусен в тех вещах, о которых он гадает, ибо он имеет больше всего признаков, чтобы при их помощи угадать.
Признаком является предыдущее событие по отношению к последующему и, обратно, последующее по отношению к предыдущему, если подобная последовательность была наблюдаема раньше, и чем чаще такая последовательность была наблюдаема, тем меньше неуверенности в отношении признака. Вот почему тот, кто имеет больше опыта в каком-нибудь роде дел, имеет больше признаков, при помощи которых он может гадать насчет будущего, а следовательно, является наиболее благоразумным. При этом такой человек является настолько больше благоразумным, чем тот, кто является новичком в этого рода делах, что преимущество первого не может быть уравновешено преимуществом природного или импровизированного остроумия, хотя многие молодые люди, может быть, имеют на этот счет противоположное мнение.
Однако не благоразумием человек отличается от животного. Бывают, животные, которые в возрасте одного года больше замечают и преследуют то, что им полезно, следовательно, более благоразумны, чем десятилетние ребята.
Подобно тому, как благоразумие есть презумпция будущего, основанная на опыте прошлого, точно так бывает презумпция прошлых вещей, выведенная из других вещей (не будущих, а тоже прошлых). Тот, кто, например, наблюдал ход вещей и последовательность событий, при которых цветущее государство дошло сначала до гражданской войны, а затем до упадка, угадает при виде упадка другого государства, что подобная война и подобный ход событий имели место и здесь. Но в такой догадке почти также мало уверенности, как и в отгадывании будущего, ибо оба основаны лишь на одном опыте.
Нет, насколько я могу вспомнить, другой душевной функции, вложенной в человека природой таким образом, чтобы для ее применения требовалось лишь одно, а именно родиться человеком и жить, пользуясь своими пятью чувствами. Те другие способности, о которых я буду говорить после и которые кажутся присущими одному лишь человеку, приобретены и умножены изучением и трудолюбием, а у большинства ученых людей – просвещением и дисциплиной, и все они возникли благодаря изобретению слов и речи. Ибо человеческий ум не имеет никакого другого движения, кроме ощущения, представления и связи представлений, хотя при помощи речи и метода эти способности могут быть развиты до такой высоты, чтобы отличить людей от всех других живых существ.
Все, что мы себе представляем, конечно. В соответствии с этим мы не имеем никакой идеи, никакого понятия о какой-либо вещи, называемой нами бесконечной. Ни один человек не может иметь в своем уме образ бесконечной величины, точно так же он не может себе представить бесконечной скорости, бесконечного времени, или бесконечной силы, или бесконечной власти. Когда мы говорим, что какая-либо вещь бесконечна, мы этим обозначаем лишь, что мы неспособны представить себе концы и пределы названной вещи, так как мы имеем представление не о самой бесконечной вещи, а лишь о нашей собственной неспособности. И поэтому имя Бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление о нем (ибо он непостижим, и его величие и сила не представляемы), а лишь с тем, чтобы мы почитали его. Точно так же человек не может иметь представления о вещи, не воспринимаемой ощущением, так как все (как я говорил раньше), что мы представляем себе, было раньше воспринято ощущением сразу, целиком или по частям. Ни один человек поэтому не может себе представить какую-либо вещь, иначе как находящейся в определенном месте, обладающей определенной величиной и способностью быть делимой на части; точно так же никто не может представить себе, чтобы какая-либо вещь находилась целиком в этом месте и одновременно целиком в другом месте, ни того, чтобы две или больше вещей могли быть одновременно в одном и том же месте, ибо ни то, ни другое никогда не было и не может быть воспринято ощущением, а все это – нелепые разговоры, принятые на веру (без какого бы то ни было смысла) обманутыми философами и обманутыми или обманывающими схоластами.
Глава IV
О речи
Хотя книгопечатание и является остроумным изобретением, оно не имеет большого значения по сравнению с изобретением письменности. Но нам неизвестно, кто первый открыл употребление письменности. Первый, кто принес ее в Грецию, как говорят, был Кадм, сын финикийского царя Агенора. Это было полезное изобретение для продления памяти о прошлом времени и для взаимной связи человеческого рода, рассеянного по столь многим и отдаленным друг от друга областям земного шара; оно было к тому же весьма трудным, требуя внимательного наблюдения за различными движениями языка, нёба, губ и других органов речи, чтобы создать столько же различных букв для их запоминания. Но наиболее благородным и выгодным из всех других изобретений было изобретение речи, состоящей из имен или на званий в их связи; при их помощи люди регистрируют свои мысли, вызывают их в памяти, если они были в прошлом, и сообщают их друг другу для взаимной пользы и взаимного общения. Без способности речи среди людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира в такой же мере, как это не бывает среди львов, медведей и волков. Первым творцом речи был сам Бог, который научил Адама, как называть существа, подобные тем, которые Он ему показал, ибо Священное Писание не идет дальше в этом вопросе.
Однако этого было достаточно, чтобы научить его прибавить еще имена, по мере дальнейшего ознакомления с этими существами и с той пользой, которую они приносят, а также постепенно соединять эти имена таким образом, чтобы быть понятым. Таким образом с течением времени могло накопиться столько слов, сколько Адаму необходимо было, хотя не в такой мере, как это необходимо оратору или философу. В самом деле, я не нахожу в Священном Писании ни одной вещи, из которой, прямо или косвенно, можно было бы вывести заключение, что Адам знал название всех фигур, чисел, мер, цветов, звуков, представлений, отношений; еще меньше есть основания думать, будто он знал имена слов и речей, вроде: общее, специфическое, утвердительное, отрицательное, вопросительное, желательное, неопределенное, которые все полезны, еще меньше знал он такие слова, как entity (сущность), intentionality (умышленность), quiddity (сущность) и другие бессмысленные схоластические слова.
Однако весь этот язык, приобретенный и обогащенный Адамом и его потомством, был снова утрачен при постройке Вавилонской башни, когда всякий человек за его мятеж был поражен рукой Бога забвением своего прежнего языка. И так как эти люди были при этом вынуждены рассеяться по разным частям света, то необходимым следствием этого было, что существующее ныне разнообразие языков было постепенно создано ими, по мере того как их научила этому нужда (мать всех изобретений). С течением времени это разнообразие стало везде еще более богатым.
Общее применение речи состоит в том, чтобы перевести нашу речь в уме в словесную речь или связь наших мыслей в связь слов. Польза от этого двоякая. Первая – это регистрация хода наших мыслей. Так как наши мысли имеют склонность ускользнуть из нашей памяти, заставляя нас таким образом возобновить весь процесс их формирования сначала, то ускользнувшие мысли могут быть снова вызваны в памяти при помощи тех слов, которыми они были обозначены. Первое применение имен состоит таким образом в том, что они служат метками для памяти. Второе – в том, что многие люди, пользующиеся одними и теми же словами, обозначают (при помощи их связи и порядка) друг другу свои понятия или мысли о каждой вещи, а также свои желания, опасения или другие их чувства. И в силу этого их применения они называются знаками. Специальные способы использования речи суть следующие. Во-первых, регистрировать то, что мы путем размышления открываем как причину вещи, настоящей или прошлой, а также то, что какая-нибудь вещь, настоящая или прошлая, может, как мы полагаем, произвести или иметь своим следствием; это в общем есть приобретение технических знаний. Во-вторых, сообщать другим то знание, которое мы приобрели, то есть советовать или учить друг друга. В-третьих, сообщать другим наши желания и намерения, с тем, чтобы мы могли взаимно помогать друг другу. В-четвертых, развлекать нас самих и других, играя нашими словами для невинного удовольствия и украшения.
Этим четырем способам использования соответствуют также четыре способа злоупотреблений. Первое, когда люди неправильно регистрируют свои мысли благодаря неустойчивому значению употребляемых ими слов, в силу чего они регистрируют в качестве своих представлений то, чего они никогда не представляли, и таким образом обманывают себя. Второе, когда они употребляют слова метафорически, то есть в другом смысле, чем тот, для которого они предназначены, обманывая этим других. Третье, когда они словами объявляют как свою волю то, что не является их волей. Четвертое, когда они употребляют их, чтобы причинить боль друг другу. В самом деле, мы видим, что природа вооружила живые существа для причинения боли врагу: некоторых зубами, других рогами, а третьих руками. Но причинить боль человеку языком является лишь злоупотреблением речью, разве только это – человек, которым мы обязаны руководить; но в таком случае это не есть уже причинение боли, а наставление и исправление.
Способ, благодаря которому речь служит для запоминания последовательности причин и следствий, состоит в применении имен и их связи. Из имен некоторые суть собственные и приурочены лишь к одной вещи, как, например, Петр, Джон, этот человек, это дерево, некоторые же общи многим вещам, например, человек, лошадь, дерево. Каждое из этих последних имен, хотя и является одним именем, есть имя различных, особых вещей и в отношении всех их в совокупности называется универсальным, причем в мире нет ничего универсального, кроме имен, так как каждая из наименованных вещей является индивидуальной и единичной.
Одно универсальное имя применяется ко многим вещам в силу их сходства в отношении какого-нибудь качества или того или другого признака; и, в то время как собственное имя вызывает в памяти одну только вещь, универсальное вызывает любую из этих многих вещей.
Из универсальных имен некоторые бывают большего объема, другие – меньшего, причем те, которые большего объема, заключают в себе те, которые меньшего объема, некоторые же, кроме того, бывают одинакового объема и включают друг друга взаимно. Например, имя тело имеет более широкое обозначение, чем слово человек, и содержит последнее в себе, а имена человек и разумное – одинакового объема и взаимно включают друг друга.
Однако здесь следует заметить, что под именем не всегда разумеется, как в грамматике, одно только слово, но иногда описательная совокупность многих слов. Ибо все эти слова: тот, кто в своих действиях соблюдает законы своей страны, составляют лишь одно имя, равнозначное слову справедливый.
При этом применении имен то более широкого, то более ограниченного значения мы запоминание последовательности представляемых в уме вещей заменяем запоминанием последовательности названий. Например, если человек, который совершенно не обладает способностью речи (как такой, который родился и остается совершенно глухонемым), поставит перед собой треугольник, а рядом с ним два прямых угла (каковы углы квадрата), то он может путем размышления сравнить и найти, что три угла этого треугольника равны тем двум прямым углам, которые стоят рядом. Однако если показать этому человеку другой треугольник, отличный по форме от предыдущего, то он не будет знать, не затратив нового труда, будут ли три угла и этого треугольника также равны двум прямым. Человек же, умеющий пользоваться словами, заметив, что такое равенство не обусловлено ни длиной сторон, ни какой-либо другой особенностью в его треугольнике, а исключительно тем, что в нем прямые стороны и три угла и что это есть все то, за что он его назвал треугольником, такой человек смело выведет универсальное заключение, что такое равенство углов имеется во всех треугольниках без исключения, и зарегистрирует свое открытие в следующих общих терминах: всякий треугольник имеет свои три угла равными двум прямым углам. И таким образом последовательность, найденная в одном частном случае, регистрируется и запоминается как универсальное правило, что разгружает наш процесс познания от моментов времени и места, освобождает нас от всякого умственного труда за исключением первоначального, а также превращает то, что мы нашли истинным здесь и теперь, в истину во все времена и во всех местах.
Но польза слов для регистрации наших мыслей ни в чем так не очевидна, как при счете. Природный идиот, который никогда не мог выучить наизусть порядка имен числительных, как один, два, три, может наблюдать каждый удар часов и качать при этом головой или говорить «один, один, один», но никогда не может знать, который час бьет. И кажется, что было время, когда эти числительные имена не были в употреблении и люди были вынуждены применять пальцы одной из своих рук или обеих к тем вещам, счет которых они желали иметь, и что отсюда произошло то, что наших числительных имен имеется у одних народов лишь десять, а у других лишь пять, после чего эти народы начинают счет снова. А человек, который умеет считать до десяти, если он будет произносить числительные имена вне их порядка, растеряется и не будет знать, когда он кончит счет. Еще меньше он будет способен складывать и вычитать и совершать все другие арифметические действия. Таким образом без слов нет возможности познания чисел, еще меньше – величин, скоростей, сил и других вещей, познание которых необходимо для существования или для благоденствия человеческого рода.
Когда два имени соединены вместе, образуя связь или утверждение, как, например, человек есть живое существо, или такое: если кто либо человек, то он живое существо, то если последнее имя живое существо обозначает все то, что обозначает первое имя человек, утверждение или связь истинны, в противном случае они ложны. Ибо истина и ложь являются атрибутами речи, а не вещей, и там, где нет речи, нет ни истины, ни лжи. Ошибка может в этом случае иметь место, как, например, когда мы ждем того, чего не будет, или предполагаем то, чего не было, но ни в коем случае человек не может быть виновен в этом случае во лжи.
Так как мы видим, что истина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждениях, то человек, который ищет точной истины, должен помнить, что обозначает каждое употребляемое им имя, и соответственно этому поместить его; в противном случае он запутается в словах, как птица в силке, и чем больше усилий он употребит, чтобы вырваться, тем больше он увязнет. Вот почему в геометрии (являющейся единственной наукой, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человеческому роду) люди начинают с установления значения своих слов, каковое установление значения они называют дефинициями, помещая последние в начале своего изучения. Отсюда видно, насколько необходимо каждому человеку, стремящемуся к истинному познанию, проверять дефиниции прежних авторов и или исправлять их, если они небрежно формулированы, или сделать их самому заново. Ибо ошибки, сделанные в дефинициях, увеличиваются сами собой по мере хода изучения и доводят людей до нелепостей, которые изучающие замечают сами, но не могут избегнуть без возвращения к исходному началу, где лежит источник их ошибок. В силу этого происходит, что те, которые доверяют книгам, поступают подобно тем, которые складывают много маленьких сумм в большую сумму, не проверяя, были ли эти маленькие суммы правильно сложены или нет, а когда они в конце концов находят явную ошибку и все же не сомневаются в правильности своих оснований, не знают, каким образом исправить ошибку. Точно так же и люди, доверяющие книгам, проводят время в порхании по своим книгам, как птицы, влетевшие через дымную трубу и видящие себя запертыми в комнате, порхают, привлекаемые ложным светом, по оконному стеклу, так как у них не хватает ума, чтобы сообразить, каким путем они вошли. В правильном определении имен, таким образом, лежит первая польза речи, а именно приобретение знания, а в неправильном определении или отсутствии всякого определения кроется первое злоупотребление, от которого происходят все ложные и бессмысленные учения. В силу этого люди, почерпающие свои знания из книг, доверяясь авторитету последних, а не из собственного размышления, настолько ниже состояния необразованных людей, насколько люди, обладающие истинным познанием, выше их. Ибо незнание составляет средину между истинным знанием и ложными доктринами. Естественное ощущение и представление не могут быть абсурдными. Природа сама не может ошибаться, и, по мере накопления ими богатства языка, люди становятся или мудрее или глупее среднего уровня. Точно так же невозможно без письменности кому бы то ни было стать необычайно мудрым или (если только его память не парализована болезнью или плохой конституцией органов) необычайно глупым. Ибо для мудрых людей слова являются лишь счетными марками, которыми они пользуются лишь для счета, для глупцов жe они полноценные монеты, освященные авторитетом какого-нибудь Аристотеля, Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого учителя, лишь бы человека.
Имена могут быть даны всему тому, что может быть подвергнуто счету, а также быть сложенными одно с другим для образования суммы или быть вычтенными одно из другого и образовать остаток. Римляне называли денежные счета Rationes, а операцию счета Ratiocinatio и то, что мы в долговых расписках и в счетных книгах называем Items (статьи счета), они называли Nomina, то есть имена; и отсюда, кажется, они распространили слово ratio на способность счета во всех других вещах. Греки имеют лишь одно слово λόγος для речи и разума. Это не значит, будто они полагали, что не может быть речи без разума, а лишь то, что не может быть рассуждения без речи; и самый акт рассуждения греки называли силлогизмом, что означает суммирование связей разных высказываний. И так как одни и те же вещи могут быть приняты в расчет на основании различных признаков, то их имена могут быть различным образом повернуты и варьированы. Это разнообразие имен может быть сведено к четырем общим категориям.
Во-первых, вещь может быть принята в расчет в качестве материи или тела как живая, чувствующая, разумная, горячая, холодная, движущаяся, находящаяся в покое; под всеми этими именами подразумеваются материя или тело, так как все таковые имена суть имена материи.
Во-вторых, вещь может быть принята в расчет или рассматриваема из-за какого-либо признака или качества, которые мы в ней воспринимаем, как, например, из-за того, что она приведена в движение, что она имеет такую-то длину, что она горячая и т. п., и тогда мы от имени самой вещи, путем небольшого изменения или преобразования, образуем имя для того признака, который мы принимаем во внимание, например, если нас интересует в вещи то, что она живая, то мы принимаем в расчет жизнь; тот признак вещи, что она движется, мы обозначаем словом движение; что она горяча – словом жара; что она длинна – словом длина и т. п. Все эти имена суть имена признаков или свойств, которыми одна материя или тело отличается от других; эти имена носят название абстрактных имен, так как они отвлечены (не от материи), а от рассмотрения материи.
В-третьих, мы принимаем в расчет свойства наших собственных тел, причем мы делаем следующее различение, например, при виде какой-нибудь вещи принимаем в соображение не самую вещь, а вид ее, цвет, образ ее в нашем представлении, а слыша какую-нибудь вещь, принимаем в соображение не ее, а лишь слушание или звук, который есть наше представление или восприятие вещи ухом. И таковые имена являются именами представлений.
В-четвертых, мы принимаем в расчет или в соображение и даем имена самим именам и речам. Ибо такие имена, как общее, универсальное, особенное, двусмысленное, являются именами имен, а имена утверждение, вопрос, повеление, рассказ, силлогизм, проповедь, просьба и многие другие подобные являются именами речей. Всеми этими именами исчерпывается разнообразие имен, положительных, которые ставятся, чтобы обозначить нечто, существующее в природе, или нечто, что может быть воображаемо человеческим умом, как, например, тела, которые существуют или могут быть представлены существующими, или свойства тел, которые существуют или могут быть представлены существующими, или слова и речь.
Имеются также другие имена, называемые отрицательными. Эти имена являются знаками, обозначающими, что какое-нибудь слово не является именем вещи, о которой идет речь. Таковы слова: ничего, никто, бесконечное, непостижимое, три минус четыре и тому подобное. Такие имена однако полезны для размышления или для направления мыслей и вызывают в уме наши прошлые размышления, хотя они не являются именами какой-нибудь вещи, ибо они заставляют нас отказаться от неправильно употребляемых слов.
Все остальные имена являются лишь пустыми звуками, причем они бывают двух сортов: 1) когда они новы и их смысл еще не установлен дефиницией; огромное количество таких имен сочинено схоластами и малодушными философами; 2) когда люди образуют имя из двух имен, значение которых противоречит друг другу и несовместимо одно с другим, как, например, имя: не вещественное тело или (что то же самое) невещественная субстанция и огромное количество других подобных имен. Ибо если два имени, из которых составлено какое-нибудь ложное утверждение, соединить вместе и объединить в одно, то оно совсем ничего не обозначает. Если, например, такое высказывание, как четырехугольник кругл, является ложным утверждением, то слово круглый четырехугольник ничего не обозначает и является пустым звуком. Точно так же, если неправильно говорить, что добродетель может быть влита или вдуваема и выдуваема, то слова влитая добродетель, вдунутая добродетель являются такими же абсурдными и бессмысленными, как круглый четырехугольник. Вот почему вы вряд ли встретитесь с каким-нибудь бессмысленным и лишенным всякого значения словом, которое не было бы образовано с латинского или греческого. Француз редко слышит, чтобы нашего Спасителя называли словом parole, но часто слышит, что Его называют словом verbe. Однако слова verbe и parole отличаются друг от друга только тем, что одно – латинское, другое – французское.
Когда человек, слыша какую-нибудь речь, имеет те мысли, для обозначения которых слова, речи и их связь предназначены и установлены, тогда мы говорим, что человек данную речь понимает, ибо понимание есть не что иное, как представление, вызванное речью. Вот почему, если речь специфически свойственна человеку (что, как я знаю, есть на самом деле), то и понимание также специфически свойственно ему. И вот почему не может быть никакого понимания абсурдных и ложных утверждений, в случае если они универсальны; хотя многие думают, что они их понимают, тогда как они лишь спокойно повторяют слова или вызубривают их наизусть.
Какого рода речи обозначают расположения, отвращения и страсти человеческой души, а также их применение и злоупотребление, об этом я буду говорить после изложения вопроса о страстях. Имена таких вещей, которые вызывают в нас известные эмоции, то есть которые нам доставляют удовольствие или возбуждают наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непостоянный смысл, так как одна и та же вещь не у всех людей вызывает одинаковые эмоции, а у одного и того же человека – одинаковые эмоции не во всякое время. Действительно, так как мы знаем, что все имена даются, чтобы обозначить наши представления, и что все наши аффекты суть тоже лишь представления, то, воспринимая различно одни и те же вещи, мы едва ли можем избегнуть различного их названия.
И хотя природа того, что мы воспринимаем, остается той же, однако различие наших восприятий этой вещи в зависимости от разнообразной конституции тела и предвзятых мнений накладывает на каждую вещь отпечаток наших различных страстей. Вот почему, рассуждая, человек должен быть осторожен насчет слов, которые помимо значения, обусловленного природой представляемой при их помощи вещи, имеют еще значение, обусловленное природой, наклонностями и интересами говорящего. Таковы, например, имена добродетелей и пороков, ибо один человек называет мудростью то, что другой называет страхом, один называет жестокостью то, что другой называет справедливостью, один – мотовством то, что другой великодушием, одни – серьезностью то, что другой – тупостью, и т. п. Вот почему такие имена никогда не могут быть истинными основаниями для какого-нибудь умозаключения. Не в большей степени такими основаниями могут служить метафоры и тропы речи, но эти менее опасны, ибо они признают свое непостоянство, чего другие имена не делают.
Глава V
О рассуждении и знании
Когда человек рассуждает, он лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения частей или образует остаток путем вы чит ания одной суммы из другой, или, что то же (если это делается при помощи слов), образует имя целого из соединения имен всех частей, или от имени целого и одной части образует имя другой части. И хотя в некоторых вещах (в числах, например) люди помимо сложения и вычитания называют еще другие действия, как умножение и деление, но эти последние суть то же самое, что первые, ибо умножение есть лишь сложение равных вещей, а деление есть лишь вычитание какой-нибудь вещи, повторенное столько раз, сколько мы можем. Эти операции свойственны не одним лишь числам, а всякого рода вещам, которые могут быть сложены одна с другой или вычтены одна из другой. Ибо если арифметика учит нас сложению и вычитанию чисел, то геометрия учит нас тем же операциям в отношении линий, фигур (плотных и поверхностных), углов, пропорций, времен, степеней, скорости, силы и т. п. Логика учит нас тому же самому в отношении последовательности слов, складывая вместе два имени, чтобы образовать утверждение, и два утверждения, чтобы образовать силлогизм, и много силлогизмов, чтобы составить доказательство. Из суммы же или из заключения силлогизм а логики вычитают одно предложение, чтобы найти другое. Политические писатели складывают вместе договоры, чтобы найти обязанности людей, а законоведы складывают законы и факты, чтобы найти, что правильно и что неправильно в действиях частных людей. Одним словом, в отношении всякого предмета, в котором имеют место сложение и вычитание, может иметь место также и рассуждение, а там, где первые не имеют места, совершенно нечего делать и рассуждению.
На основании всего этого мы можем дефинировать (то есть определить) то, что подразумевается под словом рассуждение, когда мы последнее считаем в числе способностей человеческого ума, ибо рассуждение в этом смысле есть не что иное, как подсчитывание (то есть складывание и вычитание) связей общепринятых общих имен с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю отметить их, когда мы считаем про себя, и обозначить их, когда мы доказываем или сообщаем наши выкладки другим людям.
И подобно тому, как в арифметике неопытные люди должны, а сами профессора могут часто ошибаться, точно так и в другого рода рассуждениях могут ошибаться и выводить неправильные заключения самые способные, самые внимательные и самые опытные люди. Это не значит, что рассуждение само по себе всегда бывает правильным рассуждением в такой же мере, как арифметика является точным и непогрешимым искусством, но ни рассуждение одного человека, ни рассуждение какого угодно числа людей не дают уверенности в его правильности, точно так же как не дает уверенности в правильности какого-либо счета то обстоятельство, что его единодушно одобрило большое число людей. Вот почему подобно тому, как при возникновении спора по поводу какого-либо счета партии должны добровольно согласиться между собой считать правильным счетом счет какого-либо арбитра, или судьи, решению которого они готовы подчиниться, если они не хотят, чтобы их спор довел их до свалки или, в силу отсутствия правильного рассуждения, установленного природой, остался нерешенным, точно так же бывает во всяких спорах. А когда люди, считающие себя умнее всех других людей, крикливо требуют, чтобы судьей было правильное рассуждение, но при этом однако добиваются, чтобы вещи решались не рассуждением кого-либо иного, а лишь их собственным, то это так же невыносимо в человеческом обществе, как если люди в карточной игре захотели бы по вскрытии козыря использовать во что бы то ни стало в качестве козыря ту масть, наибольшее количество которой находится в их руках. Ибо эти люди заявляют притязание не больше и не меньше как на то, чтобы каждая из их страстей, которая овладела ими в данную минуту, была принята за правильное рассуждение – и это в их собственных тяжбах. Претендуя на это, они тем самым обнаруживают отсутствие у них правильного рассуждения.
Польза и цель рассуждения заключаются не в том, чтобы найти сумму или истину одной или нескольких связей, лежащих далеко от первых дефиниций и установленных значений имен, а в том, чтобы начать с этих последних и двигаться вперед от одной связи к другой. Ибо не может быть уверенности в правильности конечных заключении без уверенности в правильности всех тех утверждений и отрицаний, на которых они были основаны или из которых они были выведены. И точно так же как отец семейства, который при сведении счета складывал бы в одну сумму суммы всех счетов расхода, не проверяя, насколько каждый счет правильно составлен теми, кто его представил, и не зная, за что он платит, был бы в этом случае не в лучшем положении, чем если бы он принял весь счет оптом, доверяясь искусству и честности счетчика, – точно также тот, кто, рассуждал о всех других вещах, принимает заключения, доверяясь авторам, а не выводит их из первичных данных всякого счета (каковыми являются значения имен, твердо установленные дефинициями), напрасно тратит свой труд; он ничего не знает, а лишь верит.
Когда человек размышляет без помощи слов, что может быть сделано в отношении отдельных вещей (например, когда он при виде какой-либо вещи предполагает то, что, по всей вероятности, предшествовало ей или что, по всей вероятности, последует за ней), то мы называем ошибкой, когда то, что, по его предположению, должно было последовать, не последовало или то, что, по его предположению, должно было предшествовать, не предшествовало. Такой ошибке подвержены самые благоразумные люди.
Но когда мы, рассуждая словами, имеющими общее значение, приходим к общему ложному заключению, то, хотя в этом случае обыкновенно говорят об ошибке, на самом деле здесь имеет место абсурд – или бессмысленная речь. Ибо ошибка есть лишь обманчивое предположение, что что-либо было в прошлом или будет в будущем, и, хотя предполагаемое фактически не имело места в прошлом или не будет иметь места в будущем, однако возможность того или другого не была исключена.
Когда же мы делаем утверждение общего характера, то оно в случае его неправильности не может быть представлено как возможность. А слова, при которых мы ничего не воспринимаем, кроме звука, суть то, что мы называем абсурдом, пустяками и бессмыслицей. Вот почему, если кто-либо стал бы мне говорить о круглом четырехугольнике, или о признаках хлеба в сыре, или о невещественной субстанции, или о свободном субъекте, о свободной воле или о какой бы то ни было свободе, за исключением свободы от внешних препятствий, я не сказал бы, что он ошибается, а сказал бы, что его слова не имеют смысла, то есть что он говорит абсурд.
Выше (во второй главе) я сказал, что человек превосходит всех остальных животных способностью исследовать при восприятии какой-либо вещи, каковы будут последствия последней и какого эффекта он может достигнуть при ее помощи. И теперь я прибавлю, что другая степень того же превосходства состоит в том, что человек может при помощи слов свести найденные им последовательности к общим правилам, называемым теоремами и афоризмами, то есть что он умеет рассуждать или считать не только в числах, но и во всех других вещах, которые могут быть сложены одна с другой или вычитаемы одна из другой.
Однако эта привилегия урезывается другой привилегией, а именно привилегией абсурдов, которым не подвержено ни одно живое существо, кроме человека. А из людей более всего подвержены им те, которые занимаются философией. Ибо очень верно то, что Цицерон где-то говорит о философии, а именно что нет такого абсурда, которого нельзя было бы найти в книгах философов. Основание этого явления очевидно. Ибо ни один из них не начинает своих рассуждений с дефиниций, или объяснений, тех имен, которыми они пользуются, каковой метод применялся лишь в одной геометрии, благодаря чему заключения последней стали бесспорными.
Причины абсурдов
1. Первую причину абсурдных заключений я приписываю отсутствию метода, тому, что философы не начинают своих рассуждений с дефиниций, то есть с установления значения своих слов, как будто они могли бы составить счет, не зная точного значения числительных имен один, два и три.
А так как все тела принимаются в расчет под разными соображениями (о чем я уже говорил в предшествующей главе) и так как эти соображения различно наименованы, то разные абсурды возникают благодаря смешению или ненадлежащему объединению их имен в единое утверждение. И вот почему.
2. Вторую причину абсурдных утверждений я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются их свойствам или имена свойств даются телам, как это делают те, которые говорят, что вера влита или инспирирована, между тем как ничто, кроме тела, не может быть влито или вдунуто во что-нибудь; таковы также утверждения: протяжение есть тело, привидения суть духи и т. п.
3. Третью причину я приписываю тому обстоятельству, что имена свойств тел, лежащих вне нас, даются свойствам наших собственных тел, как это делают те, которые говорят: цвет находится в теле, звук находится в воздухе и т. п.
4. Четвертую причину я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются именам или речам, как это делают те, которые говорят, что существуют универсальные вещи, что живое существо есть род или универсальная вещь и т. п.
5. Пятую причину – тому обстоятельству, что имена свойств даются именам и речам, как это делают те, которые говорят: природа вещи есть ее дефиниция, повеление человека есть его воля и т. п.
6. Шестую причину я вижу в пользовании вместо точных слов метафорами, тропами и другими риторическими фигурами. Ибо хотя позволительно говорить в обиходной речи, например: дорог а идет или ведет сюда или отсюда, пословица говорит это или то (между тем как дорога не может ходить, ни пословица говорить), однако, когда мы рассуждаем и ищем истины, такие речи недопустимы.
7. Седьмую – я вижу в именах, ничего не означающих, но заимствованных из схоластики и выученных наизусть, как, например, гипостатический, пресуществление, вечное, ныне и тому подобные бессмыслицы схоластов.
Тот, кто умеет избегать таких вещей, нелегко впадает в какую-нибудь нелепость, если только это не случится в силу пространности какого-нибудь рассуждения, при котором может быть можно забыть то, что было сказано раньше. Ибо все люди рассуждают от природы одинаково и хорошо, когда они имеют хорошие принципы. В самом деле, кто же так туп, чтобы совершить ошибку в геометрии и еще настаивать на ней, когда другой обнаруживает ее ему?
Отсюда очевидно, что способность к рассуждению не есть нечто врожденное в нас подобно ощущению и памяти, а также не нечто приобретенное одним лишь опытом подобно благоразумию, а что она приобретается прилежанием: прежде всего, в подходящем применении имен, во-вторых, в усвоении хорошего и правильного метода в отношении продвижения вперед от элементов, каковыми являются имена, к утверждениям, образованным путем соединения имен между собой, и отсюда к силлогизмам, которые являются связями одного утверждения с другим, пока мы доходим до знания всех связей имен, относящихся к интересующей нас теме, и это именно то, что люди называют на у кой. И между тем как ощущение и память дают нам лишь знание факта, являющегося вещью прошлой и непреложной, наука является знанием связей и зависимостей фактов между собой; благодаря такому знанию мы из того, что мы в данный момент можем сделать, знаем, как делать что-нибудь другое или что-нибудь подобное в другое время, если пожелаем. Ибо когда мы видим, как какая либо вещь совершается, по каким причинам и каким образом, то, если подобные причины попадают в сферу нашего воздействия, мы знаем уже, как их можно заставить произвести подобные же следствия.
Дети поэтому вовсе не одарены способностью к рассуждению до тех пор, пока они не получили способности речи; тем не менее они называются разумными существами в силу очевидной возможности обладать способностью к рассуждению в будущем. А что касается большей части людей, то хотя они и обладают некоторой способностью к рассуждению, например, до известной степени при счете, однако они обладают этой способностью в такой малой степени, что она им приносит мало пользы в повседневной жизни; и если в этой повседневной жизни некоторые лучше, некоторые хуже справляются со своими делами, то это зависит от различия их опыта, быстроты их памяти и различного направления их склонностей, и особенно от удачи и неудачи и от ошибок одних в отношении других. Ибо, что касается науки или определенных правил действий, то они настолько далеки от этого, что не знают, что это такое. Геометрию эти люди принимают за колдовство. А что касается других наук, то те, которые не обучались их основам и не достигли некоторого успеха, так чтобы могли видеть, как эти науки получились и как они возникли, подобны в этом отношении детям, которые, не имея представления о рождении, верят бабам, которые им говорят, что их братья и сестры не родились, а были найдены в огороде.
Тем не менее те, которые не обладают никаким научным знанием, находятся в лучшем и более достойном положении со своим природным благоразумием, чем люди, которые благодаря собственному неправильному рассуждению или благодаря тому, что они доверяются тем, которые неправильно рассуждают, приходят к неправильным и абсурдным общим правилам. Ибо незнание причин и правил не так отдаляет людей от достижения их целей, как приверженность к ложным правилам и принятие ими за причины того, к чему они стремятся, того, что является причиной не этого, а скорее чего-то противоположного.
Резюмируем. Свет человеческого ума – это вразумительные слова, предварительно, однако, очищенные от всякой двусмысленности точными дефинициями. Рассуждение есть шаг, рост знания – путь, а благоденствие человеческого рода – цель. Метафоры же и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes fatui (блуждающих огней), и рассуждать при их помощи – значит бродить среди бесчисленных нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение.
Если богатый опыт есть благоразумие, то богатство знания есть мудрость. Ибо хотя мы обыкновенно обозначаем именем мудрость и то и другое, однако римляне всегда различали между prudentia и sapientia, приписывая первое свойство опыту, а второе – знанию. Чтобы сделать, однако, разницу между указанными свойствами более ясной, приведем следующий пример. Предположим, что один человек обладает природной способностью и ловкостью в применении своего оружия, а другой сверх этой ловкости приобрел знание того, где он может ранить противника или быть раненным последним при всяком возможном положении и при всяком возможном способе защиты. Способность первого будет относиться к способности второго, как благоразумие к мудрости; обе эти способности полезны, но вторая – непогрешима. Те же, кто, доверившись лишь авторитету книг, слепо следует за слепым, подобны тому, кто, доверившись ложным правилам учителя фехтования, самонадеянно отваживается выступать против противника, который или убьет или посрамит его.
Из признаков знания некоторые достоверны и безошибочны, другие недостоверны. Достоверны, когда тот, кто претендует на обладание знанием какой-либо вещи, способен учить этому самому, то есть вразумительно доказать другому правильность своего притязания. Недостоверны, когда лишь некоторые частные явления соответствуют его претензии и вследствие многих случайностей оказываются такими, какими, по его утверждению, они должны быть. Признаки благоразумия все недостоверны, ибо невозможно замечать путем опыта и запоминать все обстоятельства, которые могут изменить успех. Но признаком безрассудства, обычно называемого презрительно педантизмом, является то, что человек, не имеющий в каком-либо деле безошибочного знания, необходимого для успеха в этом деле, отказывается от собственной природной способности суждения и руководствуется общими сентенциями, вычитанными у писателей и подверженными многочисленным исключениям. И даже среди тех самых людей, которые на совещаниях по государственным вопросам любят показать свою начитанность в политике и в истории, весьма немногие делают это в своих домашних делах, где затрагиваются их частные интересы, ибо они достаточно благоразумны в отношении своих частных дел. В общественных же делах они больше озабочены репутацией их собственного остроумия, чем успехом чужого дела.
Глава VI
О внутренних началах произвольных движений, обычно называемых страстями, и о речах, при помощи которых он и выражаются
Животным бывают специфически свойственны двоякого рода движения. Одни называются органическими – они начинаются с самого рождения и беспрерывно продолжаются в течение всей жизни, таковы суть циркуляция крови, биение пульса, дыхание, пищеварение, питание, испражнения и т. п. Все эти движения не нуждаются в помощи представления. Другие суть анимальные движения, иначе называемые произвольными движениями, как, например, ходить, говорить, двигать каким-нибудь из наших членов в соответствии с тем, как это предварительно представлялось в нашем уме. В первой и во второй главах мы уже указывали на то, что ощущение есть движение в органах и во внутренних частях человеческого тела, вызванное действием вещей, которые мы видим, слышим и т. д, и что представление есть остаток того же движения, сохранившийся по исчезновении ощущения. И так как хождение, говорение и подобные произвольные движения зависят всегда от предшествующей мысли, куда, каким путем и что, то очевидно, что представление есть первое внутреннее начало всякого произвольного движения. И хотя необразованные люди не представляют себе движения там, где движимая вещь невидима, или там, где пространство, в котором она движется, неощущаемо (вследствие своей малости), однако ни то, ни другое не мешает тому, что такого рода движения существуют. Ибо пусть будет пространство как угодно мало, но то, что движется по более обширному пространству, частью которого является это малое пространство, должно сначала двигаться по этому малому пространству. Эти малые начала движения внутри человеческого тела до их проявления в хождении, говорении, ударе и других видимых действиях обыкновенно называются усилием.
Это усилие, будучи направлено в сторону того, что его вызвало, называется аппетитом или желанием, причем последнее имя является общим, а первое часто употребляется в ограниченном смысле для обозначения желания пищи, а именно голода и жажды. А когда усилие идет в противоположную сторону от чего-нибудь, то оно обыкновенно называется отвращением, и оба они обозначают движения: одно – приближающееся, другое – удаляющееся. То же самое обозначают и греческие слова όρμή и άφορμή, сама природа часто наталкивает людей на те истины, о которые они после, когда они ищут чего-то по ту сторону природы, спотыкаются. В самом деле, схоласты не находят никакого реального движения в простом желании идти или двигаться, но так как некоторое движение они вынуждены признать, то они называют это метафорическим движением, что является бессмысленным выражением, так как хотя слова могут быть названы метафорическими, однако тела и движения – никогда.
Когда люди чего-либо желают, они говорят, что они это любят, а когда они к чему-либо питают отвращение, они говорят, что они это ненавидят. Желание и любовь таким образом обозначают одно и то же с той разве разницей, что желание указывает всегда на отсутствие объекта, а слово любовь большей частью на присутствие его. Точно так же слово отвращение указывает на отсутствие, а ненависть – на наличие объекта.
Из желаний и отвращений некоторые врождены людям, как, например, желание есть и пить, желание испражняться и облегчиться (последние могут быть также и с большим соответствием названы отвращениями от чего-то, что люди чувствуют в своем теле), а также другие желания, каковых в общем немного. Все остальные, являющиеся желаниями конкретных вещей, возникают из опыта и из испытания их действия на нас самих или на других людей. Ибо по отношению к вещам, которых мы совершенно не знаем или которые мы считаем несуществующими, у нас не может быть иного желания, как желание испробовать и испытать их. Однако отвращение мы питаем не только к вещам, которые заведомо принесли нам вред, но также к таким, о которых мы не знаем, принесут ли они нам вред или нет.
По отношению к вещам, которых мы и не желаем и не ненавидим, мы говорим о пренебрежении. Пренебрежение есть не что иное, как неподвижность или упорство сердца в сопротивлении действию некоторых вещей, и происходит это от того, что сердце испытывает уже иное движение от действия других более сильных объектов, или же это происходит по причине отсутствия опыта в отношении пренебрегаемых вещей.
И так как конституция человеческого тела находится в непрерывном изменении, то невозможно, чтобы одни и те же вещи всегда вызывали одни и те же желания и отвращения, еще меньше возможно, чтобы все люди согласно испытывали желание по отношению хоть к одному одинаковому объекту.
Каков бы ни был объект какого-либо человеческого аппетита или желания – это именно то, что человек называет для себя благом, а объект своей ненависти или отвращения – злом, а объект своего пренебрежения – дребеденью и пустяком. Ибо слова благо, зло и пустяк всегда употребляются в отношении того, кто их употребляет, так как ничто не бывает чем-либо таковым просто и абсолютно и никакое общее правило насчет того, что есть добро и что зло, не может быть взято из природы самих объектов, а устанавливается или каждым отдельным человеком в отношении своей личности (там, где нет государства), или (в государстве) лицом, представляющим государство, или арбитром, или судьей, которого расходящиеся во мнениях люди установят по взаимному соглашению и решение которого они сделают указанным правилом.
Латинский язык имеет два слова, значения которых приближаются к понятиям благо и зло, но не совсем совпадают с ними. Это именно слова: pulchrum и turpe, из которых первое обозначает то, что по некоторым явным признакам обещает благо, а второе – то, что обещает зло. В нашем же языке мы не имеем таких общих имен для выражения того же самого, а для выражения того, что понимается под pulchrum, мы в некоторых случаях употребляем слово красиво, в других – прекрасно, или приятно, или почтенно, или благопристойно, или любезно, а для выражения понятия turpe мы употребляем слова: дурно, безобразно, низко, отвратительно и т. п. в зависимости от характера объекта. Все эти слова в их соответствующих местах означают не что иное, как мину или выражение лица, которые обещают благо и зло. Таким образом мы имеем три вида того, что мы называем благом, а именно благо в обещании, то есть pulchrum, благо в действии как желаемая цель, обозначаемое словом jucundum, приятное, и благо как средство, что мы обозначаем словами полезное, выгодное; столько же мы имеем видов зла: зло в обещании, называемое римлянами turpe; зло в действии и результате, называемое ими molestum, неприятное, тягостное, и зло как средство – бесполезное, невыгодное, вредное.
Подобно тому как в ощущениях реально находится внутри нас лишь движение (как я уже выше говорил), вызванное действием внешних объектов, но представляющееся зрению, как свет и цвет, уху – как звук, ноздрям – как запах, точно так же, когда действие того же объекта простирается дальше от глаз, ушей и других органов до сердца, реальным эффектом является лишь движение или усилие, состоящее в желании (или отвращении) от движущегося объекта.
Но представление или ощущение этого движения есть то, что мы называем в одном случае удовольствием, а в другом – неудовольствием.
Это движение, которое называется желанием и представление которого называется удовольствием, является, по-видимому, моментом, укрепляющим органическое движение и содействующим последнему. Вот почему такие вещи, которые вызвали чувство удовольствия, не без основания названы jucunda (a juvando), что означает помощь и укрепление, противоположное же движение названо molesta, вредное, поскольку оно препятствует и мешает органическому движению.
Таким образом удовольствие (или delight) есть представление или ощущение блага, а страдание или неудовольствие – представление или ощущение зла. Следовательно, всякий аппетит, всякое желание и всякая любовь сопровождаются большим или меньшим чувством удовольствия, и всякая ненависть и всякое отвращение – большим или меньшим неудовольствием и неприятностью (offence).
Некоторые из удовольствий или наслаждений возникают из ощущения наличного объекта, и эти могут быть названы удовольствиями ощущения (слово чувственные, употребляемое обыкновенно лишь теми, кто их презирает, неприменимо, пока нет законов). К этого рода удовольствиям относятся все те, которые связаны с загружением и разгружением тела, а также все то, что приятно зрению, слуху, обонянию, вкусу и прикосновению. Другие возникают от ожидания, обусловленного предвидением конца или последствий вещей, независимо от того, приятны ли или неприятны эти вещи в данный момент в ощущении. Эти удовольствия являются умственными удовольствиями того человека, который выводит эти заключения, и называются обычно радостью. Точно так же некоторые из неудовольствий кроются в ощущении и называются страданием, другие – в ожидании последствий и называются горем.
Эти простые страсти: аппетит, желание, любовь, отвращение, ненависть, радость и горе – имеют в зависимости от различных соображений различные названия. Во-первых, когда они следуют одна за другой, они называются разно в зависимости от мнения, которое люди имеют о вероятности достижения того, чего они желают. Во-вторых, в зависимости от любимого или ненавидимого объекта. В-третьих, от рассмотрения многих из них вместе. В-четвертых, от чередования их или от самой последовательности в их смене.
Ибо желание, соединенное с мнением, что желаемое будет достигнуто, называется надеждой.
То же самое без такого мнения называется отчаянием.
Отвращение, соединенное с мнением, что объект нанесет вред, называется страхом.
То же самое, соединенное с надеждой избегнуть вреда благодаря сопротивлению, называется смелостью.
Внезапная смелость называется гневом.
Перманентная надежда называется верой в свои собственные силы.
Перманентное отчаяние называется неверием в свои собственные силы.
Гнев по поводу большого зла, причиненного другому при предположении, что это было сделано несправедливо, называется негодованием.
Желание добра другому называется благоволением, доброй волей, милосердием.
Если же это относится к человеку вообще – добротой.
Желание богатств называется корыстолюбием. Слово это всегда употребляется в постыдном смысле, ибо люди, конкурирующие между собой в достижении богатств, недовольны успехами друг друга; однако само по себе это желание может быть постыдным или допустимым в зависимости от тех средств, при помощи которых эти богатства добываются.
Желание сана или отличий называется честолюбием. Это имя также употребляется в худом смысле по изложенному выше основанию.
Желание вещей, которые мало способствуют достижению наших целей, и боязнь вещей, которые мало мешают этому, называется малодушием.
Пренебрежение слабой помощью в достижении наших целей или слабыми препятствиями называется величием духа.
Величие духа, проявляемое, когда угрожает опасность быть убитым или раненым, называется храбростью, мужеством.
Величие духа в пользовании богатством называется щедростью. Малодушие в отношении того же самого – скряжничеcтвом, скаредностью или бережливостью в зависимости от того, нравится ли это или не нравится.
Любовь к лицам, с которыми ведут компанию, называется любезностью.
Любовь к лицам исключительно за доставленные ими приятные ощущения называется естественным вожделением.
Любовь к лицам, имеющая своим источником воспоминание, то есть представление о прежнем удовольствии, называется сладострастием.
Любовь к одному лицу, сопровождаемая желанием быть единственным предметом его любви, называется любовной страстью.
То же самое, сопровождаемое боязнью, что любовь не взаимна, называется ревностью.
Желание причинением вреда другому человеку заставить этого последнего раскаяться в каком-нибудь его собственном деянии называется мстительностью.
Желание знать, почему и как, называется любознательностью. Это желание не присуще ни одному живому существу, кроме человека, так что человек не одним лишь своим разумом, но также и этой специфической страстью отличается от всех других животных, в которых желание пищи и других удовольствий ощущения благодаря своему доминированию подавляет заботу о знании причин, являющемся умственным наслаждением. Это последнее, сохраняясь в непрерывном и неустанном возникновении знания, превосходит кратковременную силу любого плотского наслаждения.
Страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на основании выдумок, допущенных государством, называется религией.
Подобное же представление, почерпнутое из выдумок, не допущенных государством, носит название суеверия.
А если воображаемая сила в самом деле такова, как мы ее представляем, то это истинная религия.
Страх без представления о том, почему или отчего называется паническим страхом, так как согласно легенде виновником такого страха является Пан. В действительности же дело происходит так, что первый, в ком возник этот страх, имеет представление о его причине, хотя остальные бегут, увлекаемые примером, причем каждый предполагает, что его сотоварищ знает почему. И вот почему эта страсть может возникнуть лишь при большом скоплении или в толпе людей.
Радость от восприятия чего-то нового называется удивлением. Страсть эта специфически свойственна человеку, так как она возбуждает желание узнать причину.
Радость, возникающая у человека от представления о его собственной силе и способности, есть то душевное ликование, которое называется славой, причем если она основана у человека на опыте его прежних деяний, то она совпадает с верой в свои собственные силы; если же это представление основано на лести других или же предполагается им самим ради удовольствия, связанного с таким представлением, то это называется тщеславием, каковое имя является вполне подходящим, так как вполне обоснованная вера в собственные силы порождает попытку к действию, между тем как предположение о своих силах не порождает таковой и поэтому вполне правильно называется тщетным.
Печаль, вызванная мнением о недостатке своих сил, называется упадком духа.
Тщеславие, состоящее в выдумывании или предположении способностей у нас, которые заведомо для нас не существуют, присуще большей частью молодым людям и питается историями и фикциями галантных лиц, и оно часто исправляется с возрастом и под влиянием деловой жизни.
Неожиданная слава есть страсть, производящая те гримасы, которые называются смехом. Она вызывается у людей или каким-нибудь их собственным неожиданным актом, вызывающим их одобрения, или представлением какой-либо уродливой вещи у другого, по сравнению с чем они неожиданно выдвигаются в своих собственных глазах. Эта страсть свойственна большей частью тем людям, которые сознают, что у них очень мало способностей, и вынуждены для сохранения уважения к самим себе замечать недостатки у других людей. И вот почему много смеяться над недостатками других есть признак малодушия. Ибо людям, обладающим душевным величием, свойственно помогать другим и избавлять их от презрения, а себя сравнивать лишь с наиболее способными.
Наоборот, неожиданный упадок духа есть страсть, вызывающая плач. Она обусловливается такими обстоятельствами, которые неожиданно отнимают какую-либо крепкую надежду или какую-либо опору. Этой страсти более всего подвержены те, кто главным образом полагается на внешнюю помощь, каковы женщины и дети. Вот почему некоторые плачут по поводу потери друзей, некоторые по поводу их нелюбезности, другие по поводу неожиданной приостановки их мстительных намерений благодаря примирению. Но во всяком случае как смех, так и плач, оба являются неожиданными движениями. Привычка их оба снимает, ибо никто не смеется по поводу старой шутки и никто не плачет по поводу старого несчастья.
Печаль, вызванная обнаружением какого-либо собственного недостатка, называется стыдом. Эта страсть проявляется в том, что краснеют, и состоит в представлении какой-то позорящей вещи. В молодых людях эта страсть является признаком любви к хорошей репутации и похвальна; в старых же людях она является признаком того же самого, но, так как она приходит слишком поздно, она не похвальна.
Пренебрежение хорошей репутацией называется бесстыдством. Печаль по поводу чужого несчастья есть жалость и вызывается представлением о том, что подобное несчастие может постигнуть и нас самих; поэтому она называется также состраданием, а по современной фразеологии – сочувствием. Вот почему к несчастью, явившемуся результатом большой порочности, лучшие люди имеют меньше всего жалости, а к одному и тому же несчастью меньше всего имеют жалость те люди, которые полагают, что оно им меньше всего грозит.
Пренебрежение или слабое ощущение чужого несчастья есть то, что люди называют жестокостью, и проистекает от уверенности в прочности своего собственного благополучия, ибо я считаю невозможным, чтобы человек мог испытывать удовольствие по поводу больших несчастий других людей, без всякого иного отношения к своей собственной судьбе.
Огорчение по поводу успеха соперника в богатстве, почестях или других благах называется соревнованием, если оно соединяется с усилием напрячь наши собственные способности, с тем чтобы сравняться с этим соперником или превзойти его, но если оно соединимо с усилием подставлять ножку сопернику и мешать ему, то это называется завистью.
Когда в душе человека попеременно возникают желания, отвращения, надежды и страх в отношении одной и той же вещи и одна за другой чередуются в нашем уме мысли о хороших и дурных последствиях делания или неделания предполагаемой вещи так, что иногда нас влечет к ней, а иногда мы испытываем отвращение к ней, иногда мы питаем надежду быть способными делать ее, иногда мы отчаиваемся или боимся сделать попытку к этому, тогда вся сумма желаний, отвращений, надежд и боязни, чередующихся в нашей душе вплоть до того момента, когда эта вещь будет или сделана или сочтена невозможной, называется обдумыванием.
Вот почему в отношении прошлых вещей не может быть никакого обдумывания, ибо они, очевидно, не могут быть изменены; не может быть также никакого обдумывания в отношении заведомо невозможных вещей или в отношении вещей, которые мы считаем невозможными, ибо людям ясно или они полагают, что такое обдумывание бесполезно. Однако в отношении вещей невозможных, которые мы считаем возможными, может иметь место обдумывание. Называется это обдумыванием (deliberatio) потому, что это кладет конец нашей свобод е (libertas) делать или не делать сообразно нашему желанию или отвращению.
Это попеременное следование желаний, отвращений, надежд и страхов присуще всем другим живым существам не в меньшей степени, чем человеку, а следовательно, животные также обдумывают.
О всяком акте обдумывания говорят, что он кончился, когда то, что обдумывается, или сделано, или сочтено невозможным, ибо до этого момента мы сохраняем свободу делать или не делать сообразно нашему желанию или отвращению.
Последнее желание или отвращение в акте обдумывания, непосредственно примыкающей к действию или отказу от действия, есть то, что мы называем волей, подразумевая под этим волевой акт (а не волю, как способность). И животные, которые способны обдумывать, должны необходимо иметь также волю. Определение воли, данное обыкновенно схоластикой, а именно что это разумное желание, неправильно. В самом деле, если бы это было так, то не могло бы быть произвольного акта, противоречащего разуму. Ибо произвольный акт есть то, что проистекает из воли, а не что-либо другое. Но если мы вместо разумного желания скажем, что воля есть желание, проистекающее из предшествующего акта обдумывания, то такое определение есть то же, которое я здесь дал. Воля есть поэтому последнее желание в акте обдумывания. И хотя мы говорим в обиходной речи: человек имел однажды волю сделать вещь, от совершения которой он, тем не менее, воздержался, однако в этом случае собственно подразумевается склонность, не делающая никакого акта произвольным, так как акт зависит не от нее, а от последней склонности или последнего желания. Ибо если бы промежуточные желания делали какое-нибудь действие произвольным, то на том же основании промежуточные отвращения делали бы то же самое действие непроизвольным, и таким образом одно и то же действие было бы и тем и другим, произвольным и непроизвольным.
Отсюда ясно, что не только действия, имеющие своей побудительной причиной корыстолюбие, честолюбие, сладострастие или другого рода желания предполагаемой вещи, но также и такие, которые проистекают из отвращения или боязни последствий, вытекающих от воздержания от действия, являются произвольными действиями.
Формы речи, при помощи которых выражаются страсти, частью идентичны с теми, при помощи которых мы выражаем наши мысли, а частью отличны от них. И прежде всего страсти вообще могут быть выражены в изъявительном наклонении, например, я люблю, я боюсь, я радуюсь, я обдумываю, я желаю, я приказываю, некоторые же из них имеют свои особые выражения, которые, однако, не являются утверждениями, за исключением того случая, когда они служат для того, чтобы сделать другие выводы сверх той страсти, выражением которой они служат. Обдумывание выражается в сослагательной форме, которая является подходящей формой для обозначения предположений вместе с их последствиями, например, если это будет сделано, то последует то то и то то. Эта форма выражения не отличается от формы рассуждений за исключением той разницы, что рассуждения оперируют словами общего значения, между тем как обдумывание имеет большей частью дело с частностями. Языком желания и отвращения является императивная форма: делай это, не делай этого, причем если тот, к кому обращаются, обязан делать или не делать, то это – приказание, в другом случае – просьба или совет. Языком тщеславия, негодования, жалости и мстительности является желательное наклонение. Для желания знать имеется специфическая форма выражения, именно так называемая вопросительная, например, что это, когда это будет, как это сделано, почему так? Другого языка страсти я не нахожу никакого, ибо проклятие, клятва, брань и тому подобное обозначают не речь, а разговорные приемы.
Эти формы речи, говорю я, являются выражениями или произвольными обозначениями наших страстей, но верными признаками последних они не являются, так как они могут быть употребляемы произвольно, независимо от того, имеют ли те, которые их употребляют, эти страсти или нет. Лучшими признаками наличных страстей является или выражение лица, движения тела, действия, или намерения и цели, о наличии которых у человека мы узнаем опытным путем.
И так как желания и отвращения, возникающие в процессе обдумывания, возникли благодаря предвидению хороших и дурных последствий и результатов действия, которое мы обдумываем, то хороший и дурной результаты этого обдумывания зависят от предвидения длинной цепи последствий, конец которой чрезвычайно редко кто-либо бывает способен предвидеть. Но если в той части этой цепи, которую человек предвидит, сумма благ в последствиях превосходит сумму зла, вся цепь представляет собой то, что писатели называют явным или видимым благом. И наоборот, когда сумма зла превосходит сумму добра, вся цепь называется явным или видимым злом. Таким образом, тот, кто имеет благодаря опыту или уму наиболее широкую и наиболее верную перспективу последствий, и сам наилучшим образом обдумывает и способен при желании дать наилучший совет другим.
Постоянная удача в достижении тех вещей, которых человек время от времени желает, то есть постоянное преуспевание, есть то, что люди называют счастьем. Я разумею счастье земной жизни. Ибо не существует такой вещи, как вечный душевный мир, пока мы живем здесь. В самом деле, жизнь сама по себе есть лишь движение, и так же мало может протекать без желания и страха, как без ощущения. Какого рода счастье Бог приуготовил для тех, кто благоговейно почитает Его, человек узнает лишь тогда, когда будет наслаждаться им, так как это такие радости, которые сейчас так же непостижимы, как невразумительны слова схоластов о блаженном видении. Форма речи, при помощи которой люди обозначают свое мнение о хорошем качестве какой-нибудь вещи, называется восхвалением. Та форма, при помощи которой человек обозначает силу и величие какой-нибудь вещи, есть возвеличение. Та форма, при помощи которой люди обозначают свое мнение о счастье человека, у греков называется χαρισμός, для чего мы в нашем языке не имеем никакого имени. Сказанного до сих пор о страстях вполне достаточно для нашей цели.
Глава VII
О последних пунктах или решениях речи Во всяком рассуждении, руководимом желанием знать, бывает конец, состоящий или в нахождении этого знания, или в отказе от него. И где бы мы ни прерывали цепь рассуждения, имеется конец для данного момента.
Если рассуждение бывает лишь в уме, то оно состоит из чередующихся попеременно мыслей о том, что какая-нибудь вещь будет и не будет (или), что она была и не была. Таким образом, где бы мы ни прервали цепь человеческого рассуждения, вы всегда оставите рассуждающего при презумпции: вещь будет или вещь не будет, или вещь была или не была. Все это представляет собой мнение. И такую же роль, какую играет чередующееся желание при обдумывании в отношении блага и зла, играет чередующееся мнение в исследовании истины в отношении прошлого и будущего. И аналогично тому, как последнее желание при обдумывании называется волей, последнее мнение при исследовании истины в отношении прошлого и будущего называется суждением или решительным и окончательным мнением того, кто рассуждает. И аналогично тому, как вся цепь попеременно чередующихся желаний в вопросе блага и зла называется обдумыванием, аналогично этому и вся цепь попеременно чередующихся мнений в вопросе истины и лжи называется сомнением.
Никакое рассуждение не может закончиться абсолютным знанием прошлого или будущего факта, ибо что касается знания факта, то оно прежде всего в ощущении, а затем в памяти. А что касается знания последствий, которое, как я раньше сказал, называется наукой, то такое знание не абсолютно, а условно. Ни один человек не может узнать путем рассуждения, что это или то есть, было или будет, что было бы абсолютным знанием, а лишь что если это есть, то и то есть, если это было, то и то было, если это будет, то и то будет.
Последнее является условным знанием, причем не знанием последовательности вещей в отношении одной к другой, а лишь последовательности одного имени вещи к другому имени той же вещи.
И вот почему, когда рассуждение переложено в речь, которая начинается с определений слов и дальше идет к связыванию этих слов в общие утверждения, а от этих снова к силлогизмам, то конец или последний итог называется заключением, а обозначенная им мысль есть то условное знание или знание последовательности слов, которое обычно называется наукой. Если же первым основанием такого рассуждения не являются определения или если определения неправильно связаны в силлогизмы, тогда конец, или заключение, есть снова мнение, именно мнение об истинности чего-то сказанного, хотя это иногда сказано в нелепых и бессмысленных словах, понять которые нет никакой возможности. Когда два или больше человека знают один и тот же факт, тогда говорят, что они соведают это, что равнозначительно тому, что они сообща знают это. И так как в этом случае каждый из них является наиболее подходящим свидетелем по отношению друг к другу или по отношению к третьему, то всегда считалось и будет считаться очень дурным деянием, когда человек говорит против своей совести (со-ведения) или путем подкупа или насилия заставляет это делать другого. Таким образом к доводам совести (со-ведения) прислушивались очень внимательно во все времена. Впоследствии люди сделали метафорическое употребление из того же самого слова, обозначая им знание своих собственных скрытых деяний и сокровенных мыслей, и вот почему говорится риторически, что совесть есть тысяча свидетелей. А в конце концов люди, питающие сильное пристрастие к своим новым мнениям (хотя и очень абсурдным) и упорно склонные поддерживать их, дали этим своим мнениям также почтенное имя совести, якобы считая незаконным менять их или говорить против них. Таким образом, они утверждают, будто они знают, что эти мнения истинны, между тем как они самое большее знают лишь то, что они так думают. Если чье-либо рассуждение начинается не с определений, то оно начинается или с какого-нибудь другого собственного размышления, и тогда оно называется еще мнением, или оно начинается с какого-нибудь высказывания другого, в отношении которого рассуждающий не сомневается, что он способен знать истину, и настолько честен, чтобы не обманывать, и тогда рассуждение касается не столько вещи, сколько лица, и решение в этом случае называется доверием и верой: доверием к человеку, верой как в человека, так и в истинность того, что он говорит. В этой вере таким образом заключаются два мнения: одно о высказывании человека, другое – о его качествах. Верить в человека или доверять ему означает одно и то же, а именно мнение о правдивости человека, но верить тому, что сказано, означает лишь мнение об истине высказанного. Однако мы должны заметить, что фраза я верю в, так же как и латинская credo in и греческая πιστεύω είς, употреблялась всегда лишь в сочинениях богословов. Вместо этого в других писаниях употреблялось: я верю ему, я доверяю ему, я имею доверие к нему, я полагаюсь на него, а по-латыни credo illi, fido illi, а по-гречески πιστεύω αύϖ, причем эта особенность в употреблении слова церковниками способствовала возникновению многих споров о настоящем объекте христианской веры.
Однако словом вера в, употребляемым при исповедании веры, подразумевается не доверие к личности, а исповедание и признание доктрины. Ибо не только христиане, но всякого рода люди верят так в Бога, что считают за истину все услышанное от Него независимо от того, понимают ли они это или нет, каковая вера и доверие являются единственно возможными по отношению к какой бы то ни было личности. Однако все другие, кроме христиан, совершенно не верят в доктрину христианства.
Из сказанного мы можем заключить, что если мы верим в истину какого-либо высказывания не на основании аргументов, почерпнутых из самой вещи или из принципов естественного разума, а на основании авторитета и доброго мнения, которое мы имеем о том, кто сказал это, то объектом нашей веры является последний или лицо, в которое мы верим или которому мы доверяем и слово которого мы приемлем, и лишь к этому лицу относится честь, оказанная нашим доверием. И следовательно, когда мы, не имея непосредственного откровения от Бога, верим, что Священное Писание есть слово Божье, то наша вера и доверие относятся к церкви, слово которой мы приемлем и соглашаемся с ним. А те, которые верят тому, что им какой-нибудь пророк говорит от имени Бога, приемлют слово пророка, оказывают ему честь и доверие, принимая за истину то, что он им рассказывает, независимо от того, является ли он истинным пророком или лжепророком. И так обстоит дело в отношении всякой другой истории. Ибо если я не стал бы верить всему тому, что написано историками о славных деяниях Александра или Цезаря, то я не думаю, чтобы тень Александра или Цезаря или кто-либо иной, кроме историков, имели основательный повод считать себя оскорбленными. Если Ливий говорит, что боги раз сделали, что корова заговорила, а мы этому не верим, то мы не доверяем не богу, а Ливию. Таким образом, ясно, что если мы верим чему-нибудь, не имея для этого никакого иного основания, кроме авторитета людей и их писаний, то это есть лишь вера в этих людей независимо от того, посланы ли они Богом или нет.
Глава VIII
О достоинствах, обычно называемых интеллектуальными, и о противостоящих им недостатках
Достоинство вообще во всякого рода субъектах есть нечто, что ценится за отличие и состоит в сравнении. Ибо, если все было бы одинаково во всех людях, ничто бы не восхвалялось. И под интеллектуальными достоинствами всегда подразумеваются такие умственные способности, которые люди хвалят, ценят и желают обладать ими. Все эти способности идут под общим названием большой ум, хотя это самое слово ум употребляется также, чтобы отличить одну определенную способность от всех других.
Эти достоинства бывают двух сортов: природные и благоприобретенные. Под природными я понимаю не то, что человек имеет от рождения, ибо от рождения человек имеет лишь ощущение, а в отношении этого люди так мало отличаются друг от друга и от остальных животных, что ощущение нельзя считать среди достоинств. Под природным я подразумеваю лишь тот ум, который приобретается практикой, опытом, без метода, культуры и обучения. Этот природный ум состоит главным образом в двух вещах: быстроте воображения (то есть быстрое следование одной мысли за другой) и неустанной устремленности к какой-либо избранной цели. Наоборот, медленное воображение составляет тот умственный дефект или недостаток, который обычно называется косностью, тупостью, а иногда другими именами, обозначающими медленность движения или трудность быть приведенным в движение.
И это различие в быстроте обусловлено различием человеческих страстей. Некоторые люди любят или не любят одну вещь, другие – другую, и потому у одних людей мысли протекают одним путем, у других – другим, и людей различно задевают и ими различно замечаются те вещи, которые проходят через их воображение. И так как в этом последовательном ряде человеческих мыслей ничего нельзя заметить в вещах, о которых люди думают, за исключением или того, в чем они сходны между собой, или того, в чем они различаются между собой, или того, для какой цел и они служат, или того, как они служат этой цели, то о тех людях, которые замечают сходства вещи, в случае если эти сходства таковы, что их редко замечают другие, мы говорим, что они обладают большим умом, под каковым в данном случае подразумевается большая фантазия. О тех же, которые замечают их различия и несходства, что является различением и распознаванием и суждением между вещью и вещью, то, в случае если такое различение нелегко, говорят, что они обладают хорошей способностью суждения, и, в частности, в беседах и деловых вопросах, где должны быть различены времена, места и лица, это качество называется рассудительностью. Первое, то есть фантазия, не сочетающаяся со способностью суждения, не восхваляется как достоинство, но последнее, являющееся способностью суждения и рассудительностью, восхваляется как нечто самостоятельное и без соединения с фантазией. Помимо необходимости сочетать с хорошей фантазией способность различения времени, места и лиц требуется также частое приспособление мыслей к их цели, то есть к некоторому применению, которое должно быть из них сделано. При наличии этих данных тот, кто обладает этим качеством, будет иметь большой запас сходств, которые будут правиться не только потому, что они будут иллюстрировать его разговор и украшать его новыми и меткими метафорами, но также благодаря оригинальности этих метафор. Однако без постоянства и устремленности к определенной цели большая фантазия есть своего рода сумасшествие. Этого рода сумасшествие мы наблюдаем у тех, кто, начиная разговор, отвлекается от своей цели всякой вещью, которая ему приходит в голову, и запутывается в столь многих и длинных отступлениях и парантезах, что совершенно теряет нить разговора. Для этого рода сумасшествия я не знаю специального имени. Однако причиной его являются иногда недостаток опыта, благодаря чему человеку представляется чем-то новым и редким то, что другим не представляется таковым, иногда малодушие, благодаря чему человеку кажется чем-то великим то, что другие люди считают мелочью, а все, что ново и велико и потому считается подходящей темой для разговора, отвлекает человека от намеченного им направления его беседы.
В хороших поэмах, будь то эпические или драматические, точно так же в сонетах, эпиграммах и других пьесах, требуются как суждение, так и фантазия, но фантазия должна больше выступать на первый план, так как эти роды поэзии правятся своей экстравагантностью, но они не должны портить впечатления отсутствием рассудительности.
В хорошей истории должно выступить на первый план суждение, ибо высокое качество работы по истории состоит в ее методе, в ее истинности и в выборе действий, которые наиболее выгодно знать, фантазии здесь нет места, разве лишь в украшении стиля.
В похвальных речах и в сатирах фантазия преобладает, так как задачей является не найти истину, а восхвалить или посрамить, что делается путем сопоставлений с благородным и низким. Способность суждения лишь подсказывает, какие обстоятельства делают какое-либо деяние похвальным или преступным.
В увещаниях и защитах требуются суждения или фантазия в зависимости от того, служат ли соответствующей цели лучше всего истина или сокрытие истины.
В доказательстве, в совете и во всех тех случаях, когда серьезно ищут истину, суждение – все, разве только что иногда приходится для облегчения понимания начать с какого-нибудь подходящего сходства, постольку применяется фантазия. Однако метафоры в этом случае абсолютно исключены, ибо раз мы видим, что они откровенно обманывают, то было бы явным сумасшествием допускать их в совете или рассуждении.
Если в каком бы то ни было разговоре явно сказывается отсутствие рассудительности, то, как бы экстравагантна ни была сказывающаяся в нем фантазия, весь разговор будет считаться показателем отсутствия ума у говорящего. Так никогда не будет, когда в разговоре явно обнаруживается рассудительность, хотя бы фантазия была ограничена, как никогда.
Тайные мысли человека простираются на все вещи: священные, светские, чистые, бесстыдные, серьезные и легкие, – не вызывая чувства стыда или осуждения, но в словесном разговоре это можно сделать постольку, поскольку суждение считает это допустимым в зависимости от времени, места и лиц. Анатом или врач может высказать или писать свое суждение о нечистых вещах, ибо это делается не для развлечения, а для выгоды, но если другой человек стал бы писать свои экстравагантные или забавные фантазии о тех же самых вещах, то он уподобился бы человеку, который, упав в грязь, пришел бы и представился в таком виде хорошему обществу. Вся разница между первым и вторым случаями состоит в том, что во втором случае отсутствует рассудительность. Точно так же в явно игривом настроении ума и в знакомом обществе человек может играть звуками и двусмысленными обозначениями слов, и это очень часто при состязаниях, исполненных необычайной фантазии, но в проповеди или публичной речи, или перед незнакомыми людьми, или перед людьми, которым мы обязаны уважением, не может быть жонглирования словами, которое не считалось бы сумасбродством; и разница тут тоже лишь в отсутствии рассудительности. Так что там, где не хватает ума, дело заключается не в отсутствии фантазии, а в отсутствии рассудительности. Способность суждения поэтому без фантазии есть ум, но фантазия без способности суждения не является таковым.
Если человек, поставивший перед собой определенную цель, пробегает в мыслях множество вещей и замечает, как они ведут к его цели или к какой цели они могут вести, то, в случае если такая наблюдательность нелегко дается или необычна, этот его ум называется благоразумием, и он обусловливается богатым опытом и памятью о подобных вещах и о дальнейших их последствиях. Разница между людьми в отношении этого последнего не так велика, как в отношении фантазии и способности суждения, ибо опыт людей одинакового возраста различен не столько количественно, сколько в зависимости от различных поводов, так как каждый человек имеет свои особые задачи. Управлять хорошо семьей или управлять хорошо королевством не есть разные степени благоразумия, а разного вида дела в такой же мере, как нарисовать портрет в миниатюре, или в натуральную величину, или в еще увеличенном размере, не есть разные степени искусства. Обычный отец семейства проявляет больше благоразумия в делах своего собственного дома, чем тайный советник в делах другого человека.
Если вы к благоразумию прибавите пользование несправедливыми или бесчестными средствами, каковые обычно внушаются людям страхом или нуждой, то вы имеете ту извращенную мудрость, которая называется хитростью. Последняя является признаком малодушия, ибо величие души сказывается в презрении к несправедливым или бесчестным средствам. А то, что римляне называют versutia (что переводится по-английски словом, означающим вилять, хитрить), и означает избавление от наличной опасности или неудобства средствами, вовлекающими в еще большую опасность или еще большее неудобство, как если, например, человек грабит одного, чтобы заплатить долг другому, – это есть лишь известный вид хитрости, именно более близорукая хитрость, называемая versutia от слова versura, означающего взятие денег под проценты, с тем чтобы заплатить другому следуемые ему проценты.
Что же касается благоприобретенного ума (я разумею благоприобретенного путем метода и обучения), то таковым является лишь разум, имеющий своей основой правильное употребление речи и создающий науку. Однако о разуме и науке я уже говорил в пятой и шестой главах.
Причины этих различий ума кроются в страстях, а различие страстей обусловливается отчасти различной конституцией тела, а отчасти различием воспитания. В самом деле, если это различие проистекало бы от строения мозга и других органов ощущения, будь то внешних, будь то внутренних, то люди различались бы в отношении их зрения, слуха и других ощущений не меньше, чем в отношении их фантазии и рассудительности. Источником указанного различия являются поэтому страсти, которые варьируют в зависимости не только от различия телосложения людей, но также от различия их привычек и воспитания.
Страстями, наиболее всего обусловливающими собой различия ума, являются главным образом большие или меньшие желания власти, богатства, знания или почестей. Все эти страсти могут быть сведены к первой, то есть к желанию власти, ибо богатство, знание и почести суть различные виды власти.
И вот почему если человек не имеет большой страсти к какой-нибудь из указанных вещей, а является, как люди это называют, индиферентным, то хотя он был может быть настолько добрым человеком, чтобы не быть способным обидеть кого бы то ни было, однако он не может обладать ни большой фантазией, ни большой способностью суждения. Ибо мысли играют по отношению к желаниям роль разведчиков и лазутчиков, ищущих путей к желаемым вещам, и всякое твердое направление движений ума и их живость проистекают из желаний. Ибо подобно тому, как отсутствие всяких желаний означает смерть, точно так слабость страстей означает тупость; а иметь страсти, индиферентные ко всякой вещи, есть легкомыслие и рассеянность. Питать же по отношению к какой-либо вещи более сильную и более пылкую страсть, чем та, которая обычно наблюдается у других людей, есть то, что люди называют сумасшествием.
Этого сумасшествия бывает столько же видов, сколько и самых страстей. Иногда необычайная и экстравагантная страсть имеет своим источником плохую конституцию органов тела или причиненное им повреждение, иногда же повреждение и расстройство органов проистекают от пылкости или долгой продолжительности страсти. Но в обоих случаях сумасшествие имеет одну и ту же природу.
Страстью, которая при известной силе и продолжительности переходит в сумасшествие, является или большое тщеславие, которое обычно называется надменностью или высокомерием, или большая душевная угнетенность.
Высокомерие делает человека склонным к гневу, эксцессом чего является сумасшествие, называемое яростью или неистовством. И таким образом бывает, что чрезмерное желание мести, когда оно становится обычным, приводит в расстройство органы и переходит в неистовство. Чрезмерная любовь, соединенная с ревностью, переходит также в неистовство. Слишком высокое мнение человека о самом себе, о своем божественном вдохновении, о своей мудрости, учености, красоте и т. п. становится сумасшествием и взбалмошностью, а когда оно сочетается с завистью, оно становится бешенством. Преувеличенное мнение об истинности какой-нибудь вещи, оспариваемой другими, есть бешенство.
Душевная угнетенность делает человека склонным к беспричинному страху, что является сумасшествием, обычно называемым меланхолией. Последняя проявляется в различных формах, как, например, в частом посещении уединенных мест и могил, в странном поведении и в боязни то одной, то другой вещи. Одним словом, все страсти, которые обусловливают странное и необычное поведение, называются общим именем сумасшествия. А что касается разных видов сумасшествия, то всякий, кто даст себе труд, может насчитать их легион. И если эксцессы страстей являются сумасшествием, то нет сомнения, что и сами страсти, когда они направлены ко злу, являются различными степенями сумасшествия.
К примеру, хотя действие сумасшествия у тех, которые уверены в своей вдохновенности свыше, не всегда сказывается у каждого из них в отдельности в каком-либо чрезвычайном поступке, проистекающем из этой страсти, однако, когда многие из них сговариваются, неистовство всей толпы сказывается вполне явно. Ибо в чем может больше сказаться сумасшествие, чем в том, чтобы кричать на наших друзей, бить их и бросать в них каменьями? Однако это самое меньшее из того, что такая толпа будет делать. Ибо они будут кричать, сражаться с теми и убивать тех, кто во всю их предыдущую жизнь оказывал им покровительство и охранял их от зла. А если это является сумасшествием толпы, то это точно так же сумасшествие каждого отдельного участника этой толпы. Ибо подобно тому как человек, находящийся в открытом море, не воспринимая шума ближайшей к нему частицы воды, тем не менее уверен, что эта частица не менее содействует шуму моря, чем всякая равная ей по количеству частица, точно так же, не замечая большого волнения в одном или двух человеках, мы однако можем быть твердо уверены, что их отдельные страсти являются частью мятежного шума волнующейся нации. И если бы ничто другое не обнаруживало их сумасшествия, то самый факт приписывания себе подобных инспираций явился бы достаточным аргументом. Если в Бедламе какой-нибудь человек занимал бы вас рассудительным разговором и вы при прощании пожелали бы узнать, кто он такой, с тем чтобы вы могли в другой раз отплатить ему за его любезность, и он сказал бы вам, что он – Бог Отец, то вам, я полагаю, не было бы надобности ждать каких-нибудь чрезвычайных поступков сего стороны, чтобы иметь доказательство его сумасшествия. Это мнение о своей вдохновенности, называемой обыкновенно особым внушением, начинается весьма часто с какого-либо счастливого открытия ошибки в том, что общепризнанно другими. Не зная или не припоминая, какой операцией разума они дошли до этой частной истины (как они полагают, ибо очень часто они наталкиваются на ложь), они поклоняются самим себе, считая, что они пользуются особой милостью Бога всемогущего, который открыл им эту истину сверхъестественным путем, путем внушения.
Что сумасшествие есть лишь резко выявившаяся страсть, можно опять-таки заключить из наблюдения над действием вина, которое одинаково с действием плохого состояния органов. В самом деле, разнообразие в поведении людей, много выпивших, одинаково с разнообразием поведения сумасшедших. Некоторые из них неистовствуют, другие объясняются в любви, третьи смеются, и все это сумасбродно, однако, сообразно с доминирующими у них страстями, так как действие вина лишь устраняет притворство и лишает людей возможности видеть уродство их страстей. Ибо (как я полагаю) самые трезвые люди, когда они гуляют одни, ни о чем серьезно не думая, были бы очень недовольны, если бы суетность и уродство их мыслей выявились публично, и это является признанием того, что страсти, которыми не управляют, являются большей частью простым сумасшествием.
В отношении причины сумасшествия – как в древние, так и в более поздние века – существовали два мнения. Некоторые выводили эти причины из страстей, другие от демонов или духов, добрых или злых, которые, как они полагали, могли войти в человека, овладеть им и двигать его члены таким странным и неуклюжим образом, как это обычно делают сумасшедшие. Представители первого мнения называли поэтому таких людей сумасшедшими, представители же второго мнения называют их иногда бешеными (то есть одержимыми бесом), иногда беснующимися (то есть движимыми бесами), а ныне в Италии они называются не только pazzi, сумасшедшими, но также spiritati, одержимыми людьми.
Однажды в знойный день в греческом городе Абдере было по случаю представления трагедии «Андромеда» огромное стечение народа. В результате соединенного действия зноя и трагедии очень многие из зрителей впали в горячку, так что то и делали, что декламировали ямбические стихи с именами Персея и Андромеды, отчего, как и от горячки, они излечились с наступлением зимы; и возникновение этого сумасшествия приписывали страсти, вызванной трагедией. Подобная же эпидемия сумасшествия случилась в другом греческом городе – эпидемия, которая охватила лишь молодых девушек, побудив многих из них повеситься. Большинство жителей того города сочло это актом дьявола. Однако один гражданин, подозревая, что презрение к жизни проистекает у них из какой-нибудь душевной страсти, и предполагая, что они не пренебрегают своей честью, дал городским властям совет раздеть догола самоубийц и оставить их голыми висеть. Это, как рассказывает история, прекратило сумасшествие. Однако, с другой стороны, те же греки часто приписывали сумасшествие действию евменид и фурий, а иногда действию Цереры, Феба и других богов. Так много люди приписывали фантомам, что считали их живущими в воздухе телами и называли их общим именем духов. И подобно тому, как римляне держались в этом отношении того же мнения, что и греки, точно так же держались этого мнения и евреи, ибо они называли сумасшедших пророками или (в зависимости от того, считали ли они духов добрыми или злыми) бешеными, а некоторые из них называли как пророков, так и бешеных сумасшедшими, а некоторые называли одного и того же человека бешеным и сумасшедшим. Однако поскольку речь идет о язычниках, то этому не приходится удивляться, так как болезни и здоровье, пороки и добродетели и многие естественные качества определялись и почитались ими как демоны, так что под словом демон человек мог понимать как (иногда) перемежающуюся лихорадку, так и дьявола. Но странно то, что евреи могли иметь такое мнение, ибо ни Моисей, ни Авраам не приписывали своего дара пророчества одержимости каким-нибудь духом, а Божьему внушению посредством видения или сна. Точно так же нет такого энтузиазма, ни какой-либо одержимости в законе морали или в обрядах, которые были преподаны евреям. Когда говорится о Боге (Книга чисел 11.25), что Он взял от духа, жившего в Моисее, и дал его 70 старейшинам, то не дух Бога (понимая под этим субстанцию Бога) делился. Под божественным духом в человеке Писание понимает человеческий дух, склонный к набожности. А когда говорится (Книга Исхода 28.3): кого я наполнил духом мудрости, чтобы сделать одежду для Аарона, то подразумевается здесь не дух, вложенный в тех, которые умеют делать одежду, а собственная мудрость их в этого рода работе. В таком же смысле обычно называется нечистым духом дух человека, совершающего нечистые деяния, а также другие духи, по крайней мере во всех тех случаях, когда соответствующие добродетели или пороки являются значительными и выдающимися. Точно так же не претендовали на энтузиазм и другие пророки Ветхого Завета и не утверждали, что Бог говорит в них, а лишь то, что Он говорит и м голосом или посредством видения или сна, а под Господним бременем понималась не одержимость, а повеление. Каким же образом могли евреи прийти к этому мнению об одержимости? Я не могу вообразить для этого другого основания, кроме того, которое свойственно всем людям, а именно: недостаток любознательности для исследования естественных причин и склонность считать счастьем грубые чувственные удовольствия и обладание теми вещами, которые непосредственно доставляют их. Ибо те, которые видят какую-нибудь странную или необычайную умственную способность или умственный недостаток у человека, без того чтобы одновременно видеть, от какой причины они могли бы произойти, едва ли могут считать их естественными, а если они не считают их естественными, то они по необходимости должны считать их сверхъестественными, а раз так, то что другое тут может быть, как не то, что или Бог, или дьявол обитает в таком человеке. И вот почему произошло так, что когда наш Спаситель (Евангелие от Марка 3.21) был окружен толпой, то те, которые были внутри дома, заподозрили Его в сумасшествии и вышли, чтобы удержать Его, но книжники говорили, что Он одержим Вельзевулом, и это именно то, при помощи чего Он изгоняет бесов, как если более сумасшедший нагнал бы страх на менее сумасшедшего. Точно так же некоторые говорили: Он одержим бесом и сошел с ума, между тем как другие, считавшие Его пророком, говорили: это – не слова такого, который одержим бесом. И в Ветхом Завете (2-я Книга Царей 9.11) рассказывается, что, когда пришел пророк помазать Ииуя, некоторые из окружающих спрашивали Ииуя: зачем приходил этот неистовый к тебе? В итоге всего этого ясно, что всякий, кто вел себя странным образом, считался у евреев одержимым добрым или злым духом; исключение представляют лишь Саддукеи, которые так далеко заблуждались в противоположном направлении, что совершенно не верили в существование духов (что уже весьма близко к прямому атеизму) и этим может быть в значительной степени провоцировали других называть людей странного поведения скорее одержимыми бесами, чем сумасшедшими.
Но почему наш Спаситель при лечении таких людей действовал так, точно они были бы одержимыми, а не так, как если бы они были сумасшедшими? На это я могу лишь ответить так, как отвечают тем, которые подобным же образом используют Священное Писание против мнения о движении земли. Священное Писание, предоставив мир и мирскую философию спорам людей для упражнения их естественного разума, было написано, чтобы показать людям Царство Божье и подготовить умы людей к тому, чтобы стать послушными подданными Бога. Обусловлена ли смена дня и ночи движением земли или солнца, объясняются ли ненормальные действия людей влиянием страсти или дьявола (поскольку мы последнему не поклоняемся), безразлично для нашего послушания и нашей покорности Богу всемогущему, то есть для той единственной цели, для которой написано Священное Писание.
А что касается того, что наш Спаситель говорит с болезнью как с личностью, то это обычная манера всех тех, которые лечат одними лишь словами, как это делал Христос (и как, по их утверждению, это делают колдуны, все равно обращаются ли они к дьяволу или нет). В самом деле, не говорил ли Христос также (Евангелие от Матвея 8.26), что Он запретил ветрам? Не говорил ли Он также (Лука 4.39), что Он запретил горячке? Однако это ведь не доказывает, что горячка есть дьявол. И если говорится, что многие из этих бесов признали Христа, то нет необходимости толковать соответствующие места иначе как в том смысле, что Его признали эти сумасшедшие. А когда наш Спаситель говорит (Евангелие от Матвея 12.43) о нечистом духе, который, вышедши из человека, бродит по сухим местам, ища покоя и не находя его, и возвращается в того же самого человека с семью другими духами, худшими, чем он сам, то это явная парабола, подразумевающая человека, который после небольшого усилия расстаться со своими похотливыми вожделениями побеждается их силой и становится в семь раз хуже, чем он был. Таким образом, я ничего не нахожу в Священном Писании, что требовало бы веры, будто бешеные являются чем-то другим, чем сумасшедшими.
Есть еще один недостаток в разговорах некоторых людей, который также может быть причислен к видам сумасшествия, именно то злоупотребление словами, о котором я говорил раньше в пятой главе, говоря об абсурдах. И это когда люди говорят такие слова, в сочетании которых нет никакого смысла, но которыми пользуются одни по причине непонимания слов, перенятых ими у других и повторенных в зубрежку, другие – в целях обмануть нелепостью. И это свойственно исключительно тем, которые разговаривают о предметах непонятных или обсуждают вопросы темной философии. Обычные люди редко говорят бессмыслицы и поэтому считаются претенциозными людьми, идиотами. Однако чтобы убедиться в том, что словам этих претенциозных людей абсолютно ничего не соответствует в уме, нужны были бы некоторые примеры. И вот если кто-либо требует таковых, то пусть он возьмет в руки сочинение какого-нибудь из схоластов и посмотрит, сможет ли он перевести на какой-нибудь современный язык какую-нибудь главу, касающуюся того или другого трудного пункта, как Троицы, божественности, природы Христа, пресуществления, свободы воли и т. п., и перевести так, чтобы сделать указанные рассуждения понятными, или пусть попытается перевести такую главу в сносную латынь, то есть такую, какая была обычна в то время, когда латинский язык был общенародным. Каков, например, смысл следующих слов: первичная причина не необходимо втекает как-нибудь во вторичную силой существенного подчинения вторичных причин, при помощи чего он а помогает послед ним действовать? Эти слова – перевод оглавления шестой главы первой книги Суареса: «О содействии, движении и помощи Бога». Когда люди пишут целые томы о таких материях, то разве они не сумасшедшие или не намерены сделать таковыми других? А что касается в частности вопроса о пресуществлении, то те, которые говорят, что после нескольких сказанных слов – белизна, круглость, величина, качество, ломкость, – которые все являются бестелесными свойствами, выходят из просвиры и входят в тело нашего святого Спасителя, разве говорящие так не делают все эти свойства столькими же духами, обладающими его телом? Ибо под духами они всегда разумеют вещи, которые, будучи невещественными, тем не менее имеют способность двигаться с одного места к другому. Этот вид абсурда, таким образом, может быть с полным основанием причислен ко многим видам сумасшествия; и все те моменты, когда схоласты, отдавая себе ясный отчет в смысле их слов, воздерживаются от того, чтобы диспутировать или писать таким образом, являются лишь светлыми промежутками. И этим достаточно сказано об интеллектуальных достоинствах и недостатках.
Глава IX
О различных предметах знания
Имеются два рода знания, из которых первый есть знание факта, второй – знание последовательной зависимости одного утверждения от другого. Первый род знания есть не что иное, как ощущение и память, и является абсолютным знанием, на пример, когда мы наблюдаем совершающийся факт или вспоминаем, что он совершался, и это – то знание, которое требуется от свидетеля. Второй род знания называется наукой и является условным, например, когда мы знаем, что если показанная фигура есть окружность, то всякая прямая, проведенная через ее центр, разделит ее на две равные части. И это есть то знание, которое требуется от философа, то есть от того, кто претендует на правильное мышление.
Запись знания факта называется историей, которой имеются два вида. Один называется естественной историей и является историей таких фактов или явлений природы, которые совершенно не зависят от человеческой воли. Таковы, например, истории металлов, растений, животных, областей и т. п. Другой вид называется гражданской историей и является историей произвольных действий людей в государствах.
Записями науки являются книги, содержащие доказательства последовательной зависимости одного утверждения от другого и обычно называющиеся философскими книгами. Таких книг имеется много видов соответственно разнообразию объектов исследования. Они могут быть разделены так, как я это наметил в следующей таблице (см. приложенную таблицу).
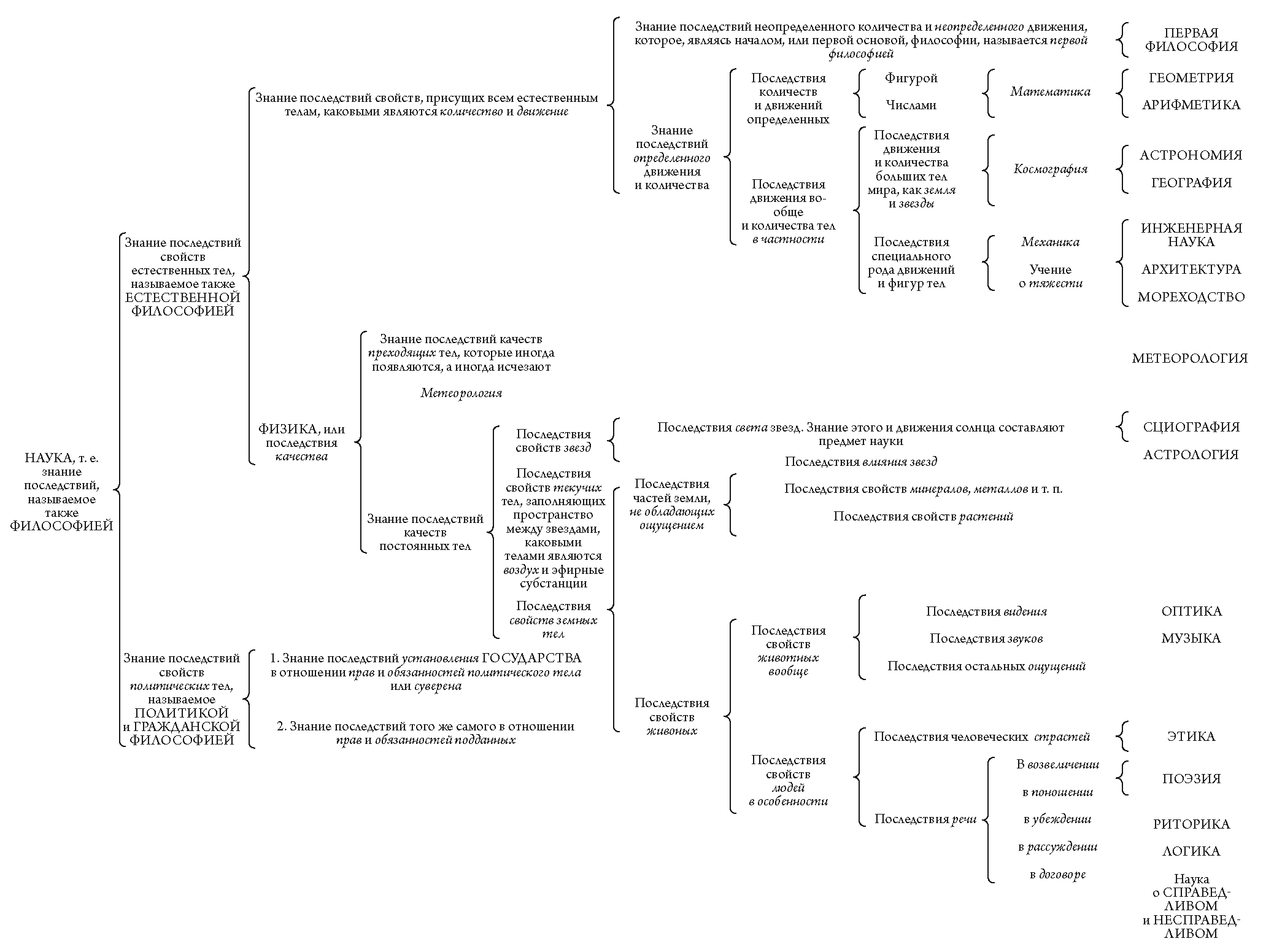
Глава X
О могуществе, ценности, достоинстве, уважении и достойности
Могущество человека (взятое в общем виде) есть его наличные средства достигнуть некоего видимого блага в будущем и является или оригинальным (естественным), или инструментальным.
Природным могуществом является превосходство способностей тела или ума, как необычайная физическая сила, красота, благоразумие, искусство, красноречие, щедрость, благородство. Инструментальными называются те формы могущества, которые приобретены при посредстве вышеуказанных качеств или благодаря удаче и являются средствами или инструментами для приобретения еще большего могущества, как богатство, репутация, друзья и тайное содействие Бога, которое люди называют счастьем. Ибо природа могущества в этом отношении похожа на молву, которая растет по мере своего распространения или подобна движению тяжелых тел, которые, чем дальше движутся, тем больше увеличивают свою скорость.
Наибольшим человеческим могуществом является то, которое составлено из сил большинства людей, объединенных соглашением, и перенесено на одну личность, физическую или гражданскую, пользующуюся всеми этими силами или по своей собственной воле, каково, например, могущество государства, или в зависимости от воли каждого в отдельности, каково могущество партии или лиги различных партий. Вот почему иметь слуг есть могущество, иметь друзей есть могущество, ибо все это означает объединенные силы.
Могуществом является точно так же богатство, соединенное со щедростью, ибо оно доставляет друзей и слуг; без щедрости богатство не является могуществом, ибо в этом случае оно не защищает своих обладателей, а делает их предметом, как бы добычей зависти. Репутация могущества есть могущество, ибо она влечет за собой приверженность тех, кто нуждается в покровительстве.
На том же основании могуществом является репутация патриота (то, что называется популярностью). Таким же образом всякое качество, внушающее многим любовь к данному человеку или страх перед ним, или репутация такого качества есть могущество, ибо это является средством иметь содействие или службу многих.
Большой успех есть могущество, ибо оно доставляет человеку репутацию мудрости или счастья, заставляющую людей бояться его или полагаться на него.
Приветливость людей, уже обладающих могуществом, есть возрастание могущества, ибо она завоевывает любовь.
Молва о человеке, будто он проявил благоразумие при ведении войны или при заключении мира, является его могуществом, ибо благоразумным людям мы более охотно вручаем власть над собой, чем другим.
Дворянское звание есть могущество, но не везде, а лишь в тех государствах, где дворянство пользуется привилегиями, ибо в таких привилегиях состоит его могущество.
Красноречие есть могущество, ибо оно есть кажущееся благоразумие. Красота есть могущество, ибо, являясь обещанием блага, она привлекает к соответствующим мужчинам любовь женщин и мало знакомых людей. Знания являются небольшим могуществом, ибо они не проявляются вовне и потому ни в ком не замечаются, да и обладают ими не все, а лишь немногие, и эти немногие обладают знанием лишь немногих вещей, а природа знания такова, что познать его наличие в ком-либо может лишь тот, кто сам в значительной степени овладел им.
Искусства государственного значения, как фортификация, производство машин и других инструментов войны, являются могуществом, так как они способствуют защите и победе; и хотя истинной матерью их является наука, именно математика, однако так как они производятся на свет рукой мастера, то они считаются как бы его потомством (согласно народному представлению, по которому бабка сходит за мать).
Ценность или стоимость человека подобно всем другим предметам есть его цена, то есть то, что дали бы за пользование его могуществом, и поэтому является вещью не абсолютной, а зависящей от нужды в нем и оценки другого. Способный предводитель солдат имеет большую цену во время войны или в такое время, когда война считается неизбежной, в мирное же время его цена не так велика. Образованный и честный судья имеет большую ценность в мирное время и меньшую во время войны. И как в отношении других вещей, так и в отношении людей определяет цену не продавец, а покупатель, ибо пусть люди ценят самих себя как угодно высоко (как это большинство людей делает), их истинная цена не выше того, во что их оценивают другие люди.
Проявление ценности, которую мы придаем друг другу, есть то, что обычно называется уважением и неуважением. Ценить человека высоко значит уважать его, ценить его низко значит не уважать. Но высоко и низко в этом случае следует понимать по сравнению с той ценой, которую человек придает самому себе.
Публичная ценность человека, то есть та цена, которую придает ему государство, есть то, что люди обычно называют достоинством. И эта цена, положенная ему государством, выражается в пожаловании должностей военных, судейских, по государственному управлению или в пожаловании имен и титулов, введенных для выявления такой цены.
Просить другого о какой-либо помощи значит оказывать ему уважение, ибо это свидетельствует о мнении просящего, что другой имеет силу помочь ему, и чем с большими трудностями связана эта помощь, тем больше оказываемое уважение.
Повиноваться кому-либо значит оказывать ему уважение, ибо никто не повинуется тем, кто, по его мнению, не имеет силы ни помочь, ни вредить ему. И следовательно, не повиноваться значит оказывать неуважение.
Давать большие подарки человеку значит оказывать ему уважение, ибо это есть покупка его покровительства и признание его могущества. Давать малые подарки значит оказывать неуважение, ибо это есть лишь милостыня и свидетельствует о мнении дарящего, что он нуждается лишь в малой помощи.
Быть усердным в содействии благу другого или льстить ему значит оказывать ему уважение, ибо это показывает, что мы ищем его покровительства или помощи. Пренебрегать человеком значит оказывать ему неуважение.
Уступить кому-либо какое-нибудь преимущество значит оказывать ему уважение, ибо это есть признание большей силы. Присвоить себе это преимущество значит оказывать неуважение.
Оказывать знаки любви или боязни кому-либо значит оказывать ему уважение, ибо как любить, так и бояться кого-либо значит ценить его. Игнорировать кого-либо или меньше любить или бояться его, чем тот ожидает, значит оказывать ему неуважение, ибо это значит низко ценить его.
Хвалить, возвеличивать или называть кого-либо счастливым значит уважать его, ибо ничто не ценится, кроме доброты, силы и счастья, бранить, высмеивать или жалеть кого-либо есть неуважение.
Говорить с кем-либо обдуманно, держаться перед ним скромно и смиренно значит оказывать ему уважение, ибо это свидетельствует о боязни обидеть его; говорить с ним опрометчиво, делать перед ним что-либо непристойное, неряшливое, постыдное значит оказывать ему неуважение.
Верить в кого-либо, доверяться ему и полагаться на него значит оказывать ему уважение, ибо в этом сказывается наше мнение о его добродетели и могуществе. Не доверять или не верить значит оказывать неуважение.
Слушаться чьего-либо совета или охотно слушать чью-либо речь значит оказывать соответствующему лицу уважение, ибо это говорит о том, что мы считаем это лицо мудрым, красноречивым или остроумным. Спать, уходить или разговаривать во время речи другого значит оказывать ему неуважение.
Делать по отношению к другому вещи, которые тот принимает за знаки уважения или которые закон или обычай принимает за таковые, значит оказывать уважение, ибо, одобряя уважение, оказываемое другими, мы признаем и силу, которую признают другие. Отказываться делать это есть неуважение.
Соглашаться с чьим-либо мнением значит оказывать соответствующему лицу уважение, так как это есть признак одобрения его суждения и его мудрости. Не соглашаться есть неуважение, ибо это значит укорять соответствующее лицо в заблуждении (а если несогласие касается многих вещей) и в нелепости.
Подражать кому-либо значит оказывать ему уважение, ибо это значит горячо одобрять его; подражать же его врагу значит оказывать ему неуважение. Оказывать уважение тем, которых уважает другой человек, значит оказывать уважение этому последнему, ибо это является признаком одобрения его суждения. Уважать же врагов другого человека есть неуважение к этому последнему.
Привлекать кого-либо в качестве советчика или помощника в трудных делах значит оказывать ему уважение, ибо это есть признак нашего мнения об его мудрости или о другой его силе. Отказать в этих же случаях в привлечении тем, кто добивается этого, есть неуважение.
Все эти формы оказания уважения являются естественными и могут иметь место как внутри государств, так и при отсутствии государств. Однако в государствах, где тот или те, кто обладает верховной властью, могут установить как знаки уважения все, что им угодно, существуют и другие формы оказания уважения.
Суверен оказывает уважение подданному посредством любого титула, должности, занятия или действия, которые он сам будет считать знаком своей воли оказать уважение подданному.
Персидский царь оказал уважение Мордухаю, распорядившись, чтобы последнего, облаченного в царскую одежду и с короной на голове, возили по улицам на одной из царских лошадей и чтобы принц шествовал перед ним, выкрикивая: так должно быть сделано тому, кому царь желает оказать честь. И однако же, когда один из царедворцев попросил у другого персидского царя или у того же самого в другое время разрешения в награду за большие заслуги носить царскую одежду, царь дал на это свое согласие, но с условием, чтобы тот носил эту одежду в качестве царского шута, а это уже было бесчестием.
Таким образом, гражданские почести имеют своим источником личность государства и зависят от воли верховной власти, поэтому они являются временными и называются гражданскими почестями. Знаками таких почестей являются судейское звание, должности, титулы, а в некоторых местах мундиры и разрисованные гербы. И люди уважают тех, кто обладает этими знаками, ибо они видят в них столько жe знаков расположения к этим обладателям со стороны государства, каковое расположение является силой.
Всякое владение, действие или качество, которое является доказательством и признаком могущества, почетно. Вот почему быть уважаемым, любимым многими или внушать страх многим есть нечто почетное как доказательство могущества. Быть уважаемым немногими или никем – не что по зорное.
Владычество и победа есть нечто почетное, так как достигается силой, а рабское положение, обусловленное нуждой или страхом, нечто позорное.
Счастливая судьба (если она продолжительна) является предметом почитания как признак милостивого расположения Бога. Несчастная судьба, утраты – нечто позорное. Богатство есть нечто почетное, ибо является силой. Бедность – позор.
Великодушие, щедрость, надежда, мужество, самоуверенность – нечто почетное, ибо они имеют своим источником сознание силы; малодушие, скаредность, робость, неуверенность в себе – нечто позорное.
Своевременное решение или определение того, что человек должен делать, является чем-то почетным, ибо свидетельствует о презрении к мелким затруднениям и опасностям. Нерешительность – нечто позорное как свидетельство переоценки маленьких препятствий и маленьких преимуществ. В самом деле, раз человек достаточно долго взвешивал вещи и не принял никакого решения, то это говорит за то, что разница между чашками весов мала, и поэтому если он не решился, то он переоценивает ничтожные вещи, что является малодушием.
Все действия и речи, проистекающие или кажущиеся проистекающими из богатого опыта, знания, рассудительности или остроумия, являются предметом почитания. Ибо все эти вещи являются силой. Действия или слова, проистекающие из заблуждения, невежества или глупости, являются позорными.
Важность, поскольку она видимо проистекает из того, что ум занят каким-нибудь делом, есть нечто почетное. Но если она видимо проистекает из намерения человека казаться серьезным, то она – нечто позорное. Ибо важность первого подобна устойчивости корабля, нагруженного товарами, важность же второго подобна устойчивости корабля, нагруженного песком и всякой другой дрянью.
Быть знаменитым по причине богатства, высокого поста, великих деяний или какого-нибудь выдающегося блага есть нечто почетное, так как является признаком силы, по причине которой он знаменит. Неизвестность, напротив, есть бесчестье.
Происходить от знаменитых родителей почетно, ибо дети таких родителей легче всего получают к своим услугам помощь и приобретают друзей своих родителей. Происходить от темных родителей, напротив, есть нечто позорное.
Деяния, проистекающие из чувства справедливости и сопряженные с потерями, есть нечто почетное, ибо они являются признаками великодушия, а великодушие есть признак могущества. Хитрость, коварство и пренебрежение справедливостью, напротив, нечто позорное.
Алчное стремление к большому богатству и честолюбивое стремление к большим почестям есть нечто почетное, как признаки обладания силой к их достижению. Жадность и честолюбие, направленные на ничтожные приобретения или на маленькое продвижение на службе, – позорны.
Деяние (если оно только велико и трудно и, следовательно, свидетельствует о большой силе) безразлично вызывает наше уважение, является ли оно справедливым или несправедливым, ибо уважение состоит лишь в мнении о силе. Вот почему древние язычники полагали, что они не бесчестят, а, напротив, воздают большую честь богам, представляя их в своих поэмах совершающими насилие, воровство и другие великие, но несправедливые и нечистые дела, так что ничто так не прославляется в Юпитере, как его любовные похождения, а Меркурий больше всего прославляется за его мошенничества и воровство. Величайшей из похвал, расточаемых последнему в одном из гимнов Гомера, является та, что, родившись утром, он к полудню того дня уже изобрел музыку, а до наступления ночи выкрал стадо Аполлона у пастухов последнего.
Точно так же, как это явствует из истории древнего времени, до основания больших государств среди людей не считалось бесчестием, а скорее законным промыслом, быть пиратом или грабителем на большой дороге, причем не только среди греков, но также среди всех других народов. И в наше время в этой части света прославляются частные дуэли и будут всегда прославляться, несмотря на свою незаконность, пока не наступит время, когда будет установлено воздавать честь тем, кто отказывается от дуэлей, и бесчестье тем, кто делает вызов. Ибо дуэли также нередко представляют собой проявление мужества, а основанием мужества всегда является большая ловкость, которая есть сила. Однако в большинстве случаев дуэли являются результатом необдуманной речи и боязни бесчестия в одном или в обоих дуэлянтах. Впутавшись своей необдуманностью в конфликт, они вынуждены вступить в борьбу, чтобы избегнуть бесчестия.
Наследственные гербы почитаются, если они связаны с большими привилегиями, в противном случае они не почитаются, ибо их сила заключается или в таких привилегиях, или в богатстве, или в чем-нибудь таком, что является объектом почитания в других людях. Эта форма чести, называемая обычно дворянством, перешла к нам от древних германцев, ибо она никогда не была известна там, где не были знакомы с германскими обычаями, и в настоящее время она существует лишь в тех местах, где обитали некогда германцы. Древнегреческие военачальники, отправляясь на войну, разрисовывали свои щиты так, как это им нравилось, так что неразрисованный щит считался признаком бедности и рядового солдата, но греки никогда не передавали своих щитов по наследству. Римляне передавали из поколения в поколение свои фамильные знаки, но это были портреты, а не затейливые рисунки предков. Среди народов Азии, Африки и Америки такой вещи не существует и никогда не существовало. Этот обычай существовал лишь у германцев, от которых он перешел в Англию, Францию, Испанию и Италию в те времена, когда германцы большими массами служили в качестве наемного войска у римлян или сами делали завоевания в этой западной части мира.
Дело в том, что Германия была разделена в древности, как и все другие страны в те времена, между бесконечным числом маленьких князей или родовых вождей, ведших непрерывные войны друг с другом. Эти вожди или князья, главным образом с той целью, чтобы их могла узнать их свита, когда они покрыты военными доспехами, а отчасти для украшения, разрисовывали свое оружие и гербы изображениями зверей или других вещей, а также делали на верхушке своего шлема некоторый отличительный и видимый знак. И это украшение на оружии и на верхушке шлема переходило по наследству к их детям: к старшим в первоначальном виде, а к остальным с такими изменениями, какие старый вождь, так называемый по-германски Here-alt, считал целесообразными. Однако, когда многие такие роды, соединившись вместе, образовали большую монархию, то функции Here-alt различать гербы были переданы специальному приказу. Потомством-то этих князей является высокое и древнее дворянство, которое большей частью имеет на своих гербах изображения сильных и хищных зверей или изображения замков, зубчатых стен, портупей, оружия, полос, частоколов и других военных знаков, так как в то время ничто не было так в почете, как военная доблесть. В последствии не только короли, но и народные республики жаловали различного рода гербы в видах поощрения и в вознаграждение за заслуги тем, которые отправлялись на войну или возвращались с войны. Все это внимательный читатель может найти в таких исторических книгах, старых греческих и латинских, где говорится о германской нации и об обычаях того времени.
Почетные титулы, какими являются титулы герцога, графа, маркиза и барона, являются объектом почитания, так как они обозначают ценность, придаваемую их носителям верховной властью государства. Эти титулы были в старые времена титулами гражданских и военных должностей, и названия их образованы частью с латинского, частью с германского и французского. Герцоги (dukes, от латинского duces) были генералами во время войны; графы (counts, от латинского comites) были такие, которые сопровождали генерала по чувству дружбы и оставлялись, чтобы управлять завоеванными и замиренными местами; маркизы (marchiones) были графы, управлявшие границами империи. Титулы герцогов, графов и маркизов перешли в империю в эпоху Константина Великого от обычаев германской милиции. Но барон, как мне кажется, был галльским титулом и обозначал большого человека, так как это были те, которые находились при особе королей и принцев и которых последние употребляли на войне для своих личных услуг. И мне кажется, что слово барон произведено от слова vir, перешедшего в ber и bar, обозначающих на галльском языке то же, что слово vir на латинском. Ber и bar перешли затем в bero и baro, так что соответствующие люди были названы berones, а затем barones и (по-испански) varones. Однако тот, кто хотел бы более подробно узнать о происхождении почетных титулов, может найти это, как это сделал и я, в превосходнейшем трактате на эту тему мистера Сельденса. С течением времени эти почетные должности по случаю смут и в целях хорошего и мирного управления были превращены в простые титулы, служащие в большинстве случаев для определения старшинства, места и порядка подданных в государствах. Люди были сделаны герцогами, графами, маркизами и баронами таких мест, где они не имели ни владения, ни команды. Для указанной же цели были изобретены и другие титулы.
Достойность человека есть вещь, отличная от его стоимости или ценности, а также от его заслуг, и состоит в специальном даровании или способности к тому, достойным чего его считают. Эта специфическая способность обыкновенно называется пригодностью или приспособленностью.
В самом деле, наиболее достоин быть военачальником, быть судьей или иметь какую-нибудь другую должность тот, кто наиболее одарен качествами, требующимися для исправления указанных должностей, и наиболее достоин богатства тот, кто обладает качествами, наиболее необходимыми для его лучшего использования. При отсутствии какого-нибудь из этих качеств человек может все же быть достойным человеком и ценным в каком-либо другом отношении. С другой стороны, может человек быть достойным богатства, должности или какого-либо официального поручения и, тем не менее, не иметь на это никакого преимущественного права перед другими, так что о нем нельзя сказать, будто он заслуживает этого. В самом деле, заслуга предполагает право, а также то, что заслуженная вещь подлежит получению на основании обещания, о чем я буду говорить подробнее впоследствии, когда буду говорить о договорах.
Глава XI
О различии манер
Под манерами я разумею здесь не благопристойность поведения, например, как человек должен приветствовать другого или как он должен полоскать рот и чистить зубы, перед тем как идти в гости, и тому подобные пункты простой благопристойности (small morals), а те качества людей, которые касаются их совместной жизни в мире и единении. В этих видах мы должны прежде всего принять в соображение, что счастье этой жизни не состоит в покое удовлетворенной души. Ибо того finis ultimus (конечной цели) и summum bonum (величайшего блага), о которых говорится в книгах старых философов морали, не существует. Да и человек, у которого нет больше никаких желаний, был бы не более способен явить, чем человек, у которого прекратилась способность ощущения и представления. Счастье состоит в непрерывном переходе желаний от одного объекта к другому, так что достижение предыдущего объекта является лишь путем к достижению последующего. Причиной этого служит то обстоятельство, что человек стремится не к тому, чтобы наслаждаться один раз и на один момент, а к тому, чтобы обеспечить навсегда удовлетворение своих будущих желаний. Вот почему произвольные действия и склонности всех людей имеют целью не только добывание, но и обеспечение благополучной жизни и различаются между собой лишь в отношении путей, причем это различие обусловливается отчасти различием страстей в разных людях, а отчасти различием знаний и мнений, которые разные люди имеют о причинах, производящих желаемый эффект.
И вот на первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, которое прекращается лишь со смертью. И причиной этого не всегда является то обстоятельство, что человек надеется на более интенсивное наслаждение, чем то, которое им уже достигнуто, или что он не может удовлетвориться умеренной властью, а лишь то обстоятельство, что человек не может обеспечить ту власть и те средства к благополучной жизни, которыми он обладает в данную минуту, без приобретения большей власти; и этим объясняется, что короли, власть которых является величайшей, обращают свои усилия на обеспечение последней: внутри – путем законов, вовне – путем войн. А когда это достигнуто, тогда возникает новое желание: у одних – желание достигнуть славы путем новых завоеваний, у других – желание покоя и чувственных наслаждений, у третьих – желание быть предметом поклонения и лести за превосходство в каком-нибудь искусстве или за другой талант.
Соперничество в добывании богатства, почестей, командования или другой власти приводит к распрям, вражде и войне, ибо один конкурент идет к достижению своего желания путем убийства, подчинения, вытеснения или отталкивания другого. В частности, конкуренция на славу располагает к поклонению древним. Ибо люди конкурируют с живыми, а не с умершими и, чтобы затемнить славу первых, приписывают последним больше, чем следует.
Желание покоя и чувственных наслаждений располагает людей к повиновению общей власти, ибо при таком желании человек отказывается от той защиты, которую могли бы ему доставить его собственная предприимчивость и трудолюбие. Боязнь смерти и увечья располагает к тому же и на том же самом основании. Напротив, бедные и смелые люди, недовольные их настоящим положением, точно так же как все люди, добивающиеся военного командования, склонны создавать поводы к войне и возбуждать смуту и мятеж, ибо военная слава может быть достигнута лишь путем войны, и нет другой надежды исправить плохую игру, как заставив перетасовать сызнова карты.
Стремление к знанию и к мирным искусствам располагает людей к повиновению общей власти. Ибо такое желание содержит желание иметь досуг, а следовательно, иметь защиту иной силы, чем их собственная.
Желание славы располагает людей к похвальным деяниям, к таким, которые нравятся тем, чье суждение они ценят, ибо мы презираем и похвалу тех людей, которых мы презираем. Желание славы после смерти приводит к тому же самому. И хотя после смерти нет ощущения хвалы, воздаваемой нам на земле, ибо эти радости или поглощаются неизреченными радостями рая, или гаснут в страшных муках ада, тем не менее такая слава не является пустым делом, ибо люди испытывают удовольствие в настоящем от предвидения этой славы и от ее благодетельных последствий для их потомства. Хотя они всего этого не видят теперь, они себе это все же представляют, а все, что доставляет удовольствие в ощущении, доставляет также удовольствие в представлении.
Сознание, что мы получили от кого-либо, кому мы считаем себя равными, больше благодеяний, чем мы можем надеяться возместить ему, располагает к показной любви, а в действительности к тайной ненависти и ставит человека в положение несостоятельного должника, который, избегая встречи с кредитором, тайно желает, чтобы последний был там, где он не мог бы видеть его никогда больше. Дело в том, что благодеяние обязывает, обязательство же есть рабство, а обязательство, которое не может быть оплачиваемо, есть вечное рабство, которое для человека, равного тому, кому он обязан, ненавистно. Если же мы получили благодеяния от человека, которого мы признаем выше себя, то это располагает нас к любви к нему, ибо это обязательство не является новым уничижением, а охотное принятие (которое люди называют благодарностью) является честью, оказываемой тому, кто нас обязывает, и эта честь вообще принимается за отплату. К любви нас также располагает полученное благодеяние от равного или от ниже нас стоящего, если только есть надежда воздать это благодеяние в полной мере, ибо согласно намерению получателя благодеяние является взаимопомощью и взаимной услугой, что дает повод к состязанию в отношении того, кто кого превзойдет в благодетельствовании. Это состязание – самое благородное и выгодное из всех возможных видов состязаний, ибо в данном случае победитель доволен своей победой, а другой берет реванш, признав это.
Если человек нанес другому обиду, которую он не может или не желает загладить, то обидчик склонен ненавидеть обклеенного, ибо первый должен ожидать от второго или мести, или прощения, а то и другое ненавистно.
Боязнь притеснении располагает человека заранее обеспечить за собой помощь общества или искать ее, так как нет другого средства, при помощи которого человек мог бы охранять свою жизнь и свободу.
Люди, не доверяющие своему собственному уму, являются во время смуты и мятежа более способными одержать победу, чем люди, считающие себя умными или хитрыми. Ибо первые любят советоваться, вторые же (боясь быть обманутыми) любят наносить удар первыми. Между тем во время мятежа, когда люди должны быть всегда готовы к сражению, единение и использование всех преимуществ силы является лучшей стратегией, чем какая-либо, придуманная тонким умом.
Тщеславные люди, а именно такие, которые, не сознавая в себе больших способностей, преисполнены самодовольства, считая себя храбрыми людьми, склонны к хвастовству, но не к смелым начинаниям, ибо при опасных и трудных обстоятельствах они добиваются только того, чтобы все видели их неспособность.
Тщеславные люди, составившие себе мнение о своих больших способностях на основании льстивых заверений других людей или на основании случайного успеха какого-либо своего предыдущего деяния, без проверки этого мнения на основании истинного познания самих себя, склонны к поспешным начинаниям, но при наступлении опасности и затруднений они склонны отступить, поскольку это для них возможно. В самом деле, не видя никакого пути к спасению, такие люди охотнее будут рисковать своей честью, чем своей жизнью, так как честь свою они могут надеяться восстановить ссылкой на какие-нибудь извиняющие обстоятельства, погибшую же жизнь восстановить никакими средствами нельзя.
Люди, питающие твердое убеждение в своей мудрости в государственных делах, склонны домогаться государственных должностей, ибо без официального положения в государственном совете и в суде они лишены той чести, которую может им доставить их мудрость. И вот почему домогаться государственных должностей склонны также красноречивые ораторы, так как красноречивые люди представляются мудрыми как им самим, так и другим людям. Малодушие располагает к нерешительности и, следовательно, к тому, чтобы упускать случаи и подходящие поводы действовать. В самом деле, если, взвесив все обстоятельства, до того как наступал момент действовать, люди все же не выяснили себе, как лучше всего поступить, то это доказывает, что разница между мотивами в пользу одного и другого образа действия невелика. Вот почему не решаться при таких условиях значит упускать случай благодаря взвешиванию мелочей, что является малодушием.
Бережливость (являющаяся, правда, добродетелью у бедных людей) делает человека непригодным к совершению таких деяний, которые требуют одновременных усилий многих людей, ибо активность этих усилий может быть питаема и поддерживаема лишь наградой, а бережливость ее ослабляет.
Красноречие в соединении с лестью располагает людей доверять тем, кто обладает этими качествами, ибо первое есть кажущаяся мудрость, а вторая – кажущаяся доброжелательность. Если же к этим двум качествам присоединяется еще военная слава, то это располагает людей оставаться верными и подчиняться тем, кто обладает всеми этими качествами, ибо первые два качества гарантируют против опасности со стороны обладателей этих качеств, последнее же качество гарантирует против опасности со стороны других людей.
Отсутствие знания, то есть незнание причин, располагает или, вернее, вынуждает человека полагаться на совет и авторитет других людей. Ибо если человек, которого касается какая-либо истина, не полагается на свое собственное мнение, то он вынужден полагаться на кого-либо другого, которого считает умнее себя и в отношении которого он не видит основания, чтобы тот его обманывал.
Незнание значения слов, то есть отсутствие понимания, делает людей склонными брать на веру не только истину, которой они не знают, но также ошибки, мало того, нелепости тех, кому они доверяют, ибо ни ошибки, ни нелепости не могут быть обнаружены без совершенного понимания слов.
От этого происходит, что люди дают различные наименования одной и той же вещи в зависимости от различия их собственных страстей. Так, например, те, кто одобряет какое-нибудь частное мнение, называют это мнением, но те, которые относятся к этому мнению неодобрительно, называют его ересью. И однако слово «ересь» означает не больше, чем частное мнение, и лишь заключает в себе больший оттенок порицания.
Этим же самым обусловливается, что без изучения и большого понимания люди не могут различать между одним актом многих людей и многими актами толпы, как, например, между общим действием всех сенаторов Рима при убийстве Катилины и многими действиями некоторых сенаторов при убийстве Цезаря. Вот почему мы склонны принимать за действие народа то, что является множеством действий, совершенных толпой людей, руководимых, может быть, одним человеком.
Незнание причин и основной природы права и справедливости, закона и правосудия располагает людей сделать правилом своих действий обычай и пример. Неправым делом в этом случае считается то, что согласно обычаю наказывалось, а правым – то, безнаказанности и одобрения чего можно привести пример или (как это варварски называют юристы, которые одни лишь применяют эту фальшивую мерку справедливости) прецедент. Люди в этих случаях похожи на маленьких детей, для которых единственным масштабом хорошего и дурного поведения является наказание, полученное от родителей и учителей, с той, однако, разницей, что дети постоянно придерживаются своего масштаба, люди же – нет. Напротив, становясь сильными и упрямыми, люди апеллируют от обычая к разуму, а от разума к обычаю – в зависимости от того, служит ли то или другое их склонности. Они отступают от обычая, когда этого требует их интерес, и действуют против разума, когда разум против них. Вот чем объясняется, что учения о праве и несправедливости постоянно оспариваются как пером, так и мечом, между тем как учения о линиях и фигурах не подлежат спору, ибо истина об этих последних не задевает интересов людей, не сталкиваясь ни с их честолюбием, ни с их выгодой или вожделениями. Ибо я не сомневаюсь, что если истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила бы чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если не оспариваемо, то путем сожжения всех книг по геометрии вытеснено.
Незнание отдельных причин располагает людей приписывать все события непосредственным и промежуточным причинам, ибо только эти причины они замечают. Отсюда происходит, что во всех тех местах, где люди отягощены сильными государственными поборами, они изливают свой гнев на представителей податного ведомства, то есть на откупщиков, сборщиков податей и других чиновников по ведомству государственных сборов, и присоединяются к тем, кто критикует правительство, причем, когда они зашли так далеко, что на оправдание нет надежды, они из страха наказания или унизительного для них прощения нападают на верховную власть.
Незнание естественных причин располагает людей к легковерию, так что они часто склонны верить в то, что невозможно, ибо, будучи неспособны обнаружить эту невозможность, такие люди могут лишь считать это правдоподобным.
А так как люди любят, чтобы их слушали в обществе, то легковерие делает их склонными к вранью. Таким образом, одно это незнание делает людей склонными без всякого злого умысла с их стороны как верить лжи, так и распространять ее, а иногда даже и сочинять ее самим.
Беспокойство за будущее располагает людей к исследованию причин явлений, ибо знание этих причин делает людей более способными устроить свое настоящее к своему вящему благополучию.
Любознательность, или любовь к познанию причин, заставляет людей от наблюдения последствий переходить к отысканию их причин, а затем дальше к отысканию причин этих причин, так что в конце концов они должны прийти к тому заключению, что есть некая причина, которая не обусловлена никакой предшествовавшей причиной, а является вечной. И эту первую причину люди называют Богом. Таким образом, нельзя углубиться в исследование естественных причин без того, чтобы стать склонным верить в существование предвечного Бога, хотя нельзя иметь никакого представления о нем в уме, которое было бы адекватно его природе. Точно так же как слепорожденный, который слышит от людей, что они греются у огня, и сам испытывает на себе это действие огня, может легко понять и питать твердую уверенность, что есть что-то такое, что люди называют огнем и что является причиной той теплоты, которую он чувствует, и все же при этом не может себе представить, как этот огонь выглядит, и не может иметь в уме представления, равного представлению тех, кто видит этот огонь, точно так же и человек при виде изумительного порядка, который царит в явлениях нашего мира, может понять, что имеется какая-то причина этого, но однако не может иметь ни идеи, ни образа этой причины в своем уме.
А что касается тех людей, которые мало занимаются или совсем не занимаются исследованием естественных причин вещей, то обусловленный самым этим незнанием страх перед тем, что имеет силу причинить им много добра и зла, делает их склонными предполагать и воображать существование разного рода невидимых сил, благоговеть перед образами своего собственного воображения, призывая их помощь в моменты несчастий и вознося им благодарность в моменты предвидения доброго успеха, делая, таким образом, своими богами творения своей собственной фантазии. Таким образом, случилось, что из бесконечного разнообразия образов своей фантазии люди сотворили бесконечное количество видов богов. И этот страх невидимых вещей есть естественное семя того культа, который каждый называет религией, поскольку он его сам исповедует, и суеверием, поскольку другие, иначе чем он сам, почитают эту силу или боятся ее.
А так как это семя религии было замечено многими, то некоторые из тех, которые его заметили, были склонны питать и развивать его и превратить в закон, прибавив к нему еще собственного изобретения различные мнения о причинах будущих событий, думая приобрести таким путем наилучшую возможность управлять другими и извлечь для себя наибольшую выгоду из их сил.
Глава XII
О религии
Ввиду того что все признаки, все плоды религии находятся лишь в человеке, то нет никакого основания сомневаться в том, что и семя религии находится лишь в человеке и состоит в некотором специфическом качестве или по крайней мере в таком значительном развитии этого качества, которого нельзя найти в других живых существах.
И прежде всего специфически свойственно человеческой природе доискиваться причин наблюдаемых событий. Такая любознательность свойственна некоторым людям в большей, другим в меньшей степени, но всем людям в такой мере, чтобы доискиваться причин своего собственного счастья и несчастья.
Во-вторых, при виде какой-нибудь вещи, имеющей начало, человеку свойственно также думать, что эта вещь имеет причину, почему вещь началась именно в данный момент, а не раньше или позже.
В-третьих, в отличие от животных, которые в силу отсутствия у них способности наблюдать и запоминать порядок, последовательность и взаимную зависимость видимых ими вещей обладают в малой степени или совсем не обладают способностью предвидеть будущее и счастье которых поэтому состоит лишь в ежедневном удовлетворении их потребности в пище, покое и их похоти, – в отличие от животных, человек замечает, как одно событие производит другое, и запоминает в них предыдущее и последующее. А если он не может удостовериться в истинных причинах вещей (ибо причины благополучия и неблагополучия большей частью бывают скрыты), то он строит такие предположения насчет этих причин, какие ему внушает его собственная фантазия, или он полагается на авторитет других людей, а именно тех, которых он рассматривает как друзей и считает более мудрыми, чем он сам.
Первые два свойства человеческой природы являются источником беспокойства. Ибо, удостоверившись в том, что все вещи – как те, которые имели место до сих пор, так и те, которые будут иметь место впоследствии, – имеют свои причины, человек при своих непрерывных усилиях обеспечить себя против зла, которого он боится, и приобрести благо, к которому он стремится, не может не быть в постоянной заботе о будущем. Таким образом, все люди, особенно те, которые являются наиболее прозорливыми, находятся в положении, подобном положению Прометея. Подобно тому как Прометей (под которым следует разуметь разумного человека) был прикован к скале Кавказа, с которой открывался широкий вид и где орел, расклевывая его печень, пожирал днем то, что отрастало за ночь, точно так же и человек, слишком далеко заглядывающий вперед, в своей заботе о будущем терзается все время страхом смерти, бедности или другого бедствия, имея отдых или передышку от своего беспокойства разве лишь во время сна.
Этот постоянный страх, всегда сопровождающий человеческий род, шествующий как бы во тьме благодаря незнанию причин, должен по необходимости иметь какой-нибудь объект. Вот почему, когда нельзя найти видимого объекта, люди считают виновником своего счастья или несчастья невидимого агента или невидимую силу. В этом смысле, может быть, следует понимать слова некоторых древних поэтов, говоривших, что боги были первоначально созданы человеческим страхом, и это в отношении богов (то есть в отношении многобожия язычников) совершенно справедливо. Однако признание единого Бога, предвечного, бесконечного и всемогущего, может быть легче выведено из желания людей познать причины естественных тел и их различных свойств и действий, чем из страха людей перед тем, что с ними может случиться в будущем. Ибо тот, кто при наблюдении чего-либо совершающегося перед ним будет исследовать ближайшую и непосредственную причину этого и отсюда перейдет к исследованию причины этой причины и, таким образом, углубится в исследование всего последовательного ряда причин, – тот должен будет в конце концов прийти к тому заключению, что (как это признавали даже языческие философы) необходимо существует первичный двигатель, то есть первичная и предвечная причина всех вещей. А это именно то, что люди разумеют под именем Бога. К мысли о едином Боге, таким образом, люди приходят помимо всякой мысли об их судьбе, забота о которой делает их склонными к страху и отклоняет их от исследования причин других вещей и этим дает повод к измышлению стольких богов, сколько есть людей, измышляющих их.
Что же касается материи, или субстанции, выдуманных невидимых агентов, то путем естественного размышления люди могли прийти лишь к тому представлению, что эта материя, или субстанция, однородна с материей, или субстанцией, человеческой души и что человеческая душа по своей субстанции сходна с тем, что представляется человеку, когда ему снится сон, или с тем, что представляется бодрствующему человеку, когда он смотрится в зеркало. Не зная, что эти последние явления суть не что иное, как порождение фантазии, люди считают их реальными и существующими вовне субстанциями и поэтому называют их привидениями подобно тому, как римляне называли их imagines (образы) и umbrae (тени), и считают их духами, то есть тонкими воздушными телами, и полагают, что те невидимые агенты, которых они боятся, похожи на них с той лишь разницей, что они появляются и исчезают по своему произволу. Однако мнение о том, будто такие духи являются бестелесными, или невещественными, естественным путем никогда не могло прийти в голову кому бы то ни было, ибо хотя люди могут сочетать слова с взаимно противоречивым значением, как слова дух и бестелесный, однако они не могут иметь представления о какой-либо вещи, соответствующей такому словосочетанию. И вот почему люди, пришедшие собственным размышлением к признанию бесконечного, всемогущего и предвечного Бога, предпочитают признать Его непостижимым и превышающим силу их разумения, чем определять Его естество словами бестелесный дух и затем признать, что это определение непонятно, или если они дают Ему такой титул, то это делается не в догматическом смысле, то есть не с намерением сделать понятным божественное естество, а из благочестивого желания выразить свое благоговение приписыванием Ему атрибутов, значение которых наиболее далеко от грубости видимых тел.
Что касается затем предполагаемого пути, каким эти невидимые агенты производят свои действия, то есть какими непосредственными причинами они пользуются, заставляя события совершаться, то люди, не знающие, что представляет собой то, что мы называем причинностью (то есть почти все люди), могут строить свои догадки на этот счет, руководствуясь не правилами, которых у них нет, а наблюдениями и воспоминаниями последовательности определенных явлений во времени без выявления их зависимости или связи. Вот почему они ждут в будущем такой же последовательности событий, какую они наблюдали в прошлом, и суеверно ожидают счастья или несчастья от вещей, которые не стоят ни в какой причинной связи с ним. Так поступили афиняне, требовавшие для своей войны при Леванте второго Формиона, партия Помпея, требовавшая для войны в Африке второго Сципиона, и так поступали другие с тех пор в различных других случаях. Подобным же образом люди приписывают влияние на свою судьбу чьему-либо присутствию, счастливому или несчастному месту, каким-нибудь произнесенным словам, особенно если при этом было произнесено имя Бога, например, колдованию и заклинаниям (литургия ведьм), причем доходят до того, что верят, будто колдовство и заклинания имеют силу превратить камень в хлеб, хлеб в человека или любую вещь в любую иную вещь.
В-третьих, что касается почестей, которые люди естественно воздают невидимым силам, то они могут иметь лишь те формы выражения, которые они применяли бы по отношению к людям, а именно: дары, просьбы, благодарности, покорность, почтительные обращения, скромное поведение, обдуманные слова, клятвы (то есть уверение друг друга в исполнении данных обещаний) при призыве их на помощь. Сверх этого разум ничего не подсказывает, а предоставляет людям или довольствоваться этими формами, или полагаться в отношении дальнейших церемоний на тех, кого они считают умнее себя.
Наконец, что касается того, как эти невидимые силы объявляют людям то, что должно произойти в будущем, особенно то, что касается их будущей судьбы в общем, или успеха, или неуспеха в каком-либо частном предприятии, то в этом отношении люди естественно находятся в затруднении. Однако, имея привычку гадать о будущем на основании прошлого, люди весьма склонны не только принять случайные вещи после одного или двух случаев за предзнаменование подобных же случаев в будущем, но и верить также предсказаниям других людей, о которых они однажды составили себе хорошее мнение.
И в этих четырех вещах – в представлении о привидениях, незнании вторичных причин, покорности по отношению к тому, чего люди боятся, и в принятии случайных вещей за предзнаменования – состоит естественное семя религии, которое в силу различий фантазий, суждений и страстей разных людей развилось в церемонии, столь различные, что те, которые практикуются одним человеком, в большинстве случаев кажутся смешными другому.
Дело в том, что эти семена были культивированы людьми двоякого сорта. Одни – это те, которые выращивали и приводили в порядок эти семена согласно своему собственному измышлению, другие же – это те, кто делал это согласно приказанию и наставлению Бога, но оба сорта людей это делали с намерением превратить доверяющих им людей в наиболее приспособленных к повиновению, к подчинению законам, к миру, милосердию и гражданскому общежитию. Религия первого сорта является, таким образом, частью человеческой политики, указывающей часть тех обязанностей, которых земные цари требуют от своих подданных. Религия же второго сорта является божественной политикой и содержит правила для тех, которые объявили себя подданными Царства Божия. К первому сорту относятся все языческие основатели государств и законодатели. Ко второму сорту – Авраам, Моисей и наш божественный Спаситель, внушившие нам законы Царства Божия.
А что касается той части религии, которая заключается в представлениях относительно природы невидимых сил, то нет почти ни одной именуемой вещи, которая не считалась бы среди язычников в том или другом месте богом или дьяволом или не представлялась бы их поэтам одушевленной, обитаемой или одержимой тем или другим духом.
Неорганизованная материя мира почиталась богом под именем хаоса. Небо, океан, планеты, огонь, земля, ветры были такими же богами.
Обоготворялись мужчина, женщина, птица, крокодил, теленок, собака, змея, лук-порей.
Язычники населяли почти все места духами, называемыми демонами: долины – панами или сатирами, леса – фавнами и нимфами, море – тритонами и другими нимфами, каждую речку и каждый источник – духом того же имени и нимфами, каждый дом – ларами или домовыми, каждого человека – его гением, ад – привидениями и духами-служителями, как Харон, Цербер и фурии; а в ночное время они населяли все места ларвами, лемурами, привидениями умерших людей и целым царством русалок и привидений. Мало того, они приписывали божественность и строили храмы простым акциденциям или качествам, каковы суть время, ночь, день, мир, согласие, любовь, борьба, доблесть, честь, здоровье, ржавчина, лихорадка и т. п., причем, если они молились о даровании или об отвращении какого-нибудь из перечисленных состояний, они молились так, точно над их головой висели бы какие-нибудь духи, носящие указанные имена и способные ниспослать им желаемое благо или отвращать от них угрожающее бедствие. Они обоготворяли также свой собственный ум под именем муз, свое собственное невежество под именем судьбы, свое собственное сладострастие под именем Купидона, свое собственное неистовство под именем фурий, свои собственные члены под именем приапа и приписывали свои поллюции инкубам и суккубам, так что все, что поэт мог выводить в качестве персонажа в своей поэме, они делали богом или дьяволом.
Те же творцы языческой религии, заметив вторую основу религии, а именно незнание людьми причин и вследствие этого их склонность приписывать превратность своей судьбы причинам, от которых эта судьба не находится ни в какой видимой зависимости, воспользовались случаем, чтобы навязать невежеству людей вместо вторичных причин своего рода вторичных и служебных богов, и приписали причину плодородия Венере, причину появления искусств Аполлону, причину лукавства и хитрости Меркурию, причину бурь и гроз Эолу, так что у язычников было такое же великое разнообразие богов, как и дел.
И к тем формам поклонения, которые люди естественно считали нужным практиковать по отношению к своим богам, а именно к жертвоприношениям, молитвам, благодарностям и другим вышеуказанным формам, эти самые языческие законодатели прибавили изображения богов как в живописи, так и в скульптуре, с тем чтобы наиболее невежественная часть народа (то есть наибольшая часть или большинство его), думая, что боги, которых эти изображения представляют, реально содержатся и как бы помещаются в них, тем больше боялась их. И они одарили этих богов землями, домами, служителями и доходами, изъятыми из человеческого пользования, то есть посвященными этим их идолам. Им посвящались таким образом пещеры, рощи, леса, горы и целые острова. И наделялись они не только формами частью людей, частью зверей, частью чудовищ, но также способностями и страстями людей и зверей, а именно: ощущением, речью, полом, сладострастием и способностью производить потомство (это не только путем сожительства менаду собой для продолжения рода богов, но и путем сожительства с мужчинами и женщинами для порождения нечистокровных богов и лишь сожителей неба, как Вакх, Геркулес и другие), и сверх того они наделялись способностью к гневу и мстительностью и другими страстями, присущими живым существам, а также деяниями, проистекающими из этих страстей, как обман, воровство, прелюбодеяние, содомия, и любым пороком, который может считаться последствием власти или причиной наслаждениями всеми теми пороками, которые, по понятиям людей, больше противоречат законам, чем чувству чести.
Наконец, к предсказаниям будущего – естественным, являющимся лишь догадками на основе опыта прошлого, и сверхъестественным, являющимся божественным откровением, – творцы языческой религии прибавили бесчисленное количество суеверных способов определения будущего, основанных частью на мнимом опыте, частью на мнимом откровении. Они внушили людям веру, что можно узнать свою будущую судьбу то из двусмысленных и бессмысленных ответов жрецов Дельф, Делоса и Аммона и других известных оракулов, каковые ответы были преднамеренно двусмысленны, чтобы не быть посрамленными при любом исходе событии, или бессмысленны вследствие одурманивающего действия паров, которые часто бывают в сернистых пещерах; то из книг Сибилл, из коих некоторые пользовались известностью в эпоху Римской республики (вроде, может быть, книг Нострадама, ибо имеющиеся в настоящее время фрагменты являются, по-видимому, подделкой позднейшего времени), то из бессмысленных речей сумасшедших, которые считались одержимыми божественным духом, каковую одержимость они называли энтузиазмом, и такого рода предсказывание событий считалось пророчеством; то по расположению звезд при рождении тех, о судьбе которых гадали, что называлось гороскопом и считалось частью астрологии; то из их собственных надежд и опасений, что называлось предчувствием или предзнаменованием; то из предсказаний ведьм, утверждавших, будто они совещаются с мертвыми, что называется некромантией, заклинанием и колдовством, а на самом деле является лишь мошенничеством и умышленным плутовством; то по случайному полету или кормлению птиц, что называлось авгурией; то по внутренностям принесенных в жертву животных, что называлось аруспицией; то в снах; то по карканью воронов или щебетанью птиц; то по чертам лица, что называлось метопоскопией; то гаданьем по линиям рук; по случайно оброненным словам, что называлось предзнаменованием; то по появлению чудовищ или необычайных явлений, как затмение, кометы, редкие метеоры, землетрясение, наводнение, странные случаи рождения и т. п., которые они называли дурными предзнаменованиями, так как они полагали, что эти явления предвещают или предуказывают наступление каких-то больших бедствий; то путем простой лотереи, как орлянка, считание отверстий в решете, выуживание стихов у Гомера и Виргилия и бесчисленные другие нелепые представления. Отсюда можно видеть, с какой легкостью можно заставить человека верить всему тому, что говорят ему люди, которые приобрели его доверие и которые умеют исподволь и ловко использовать его страх и невежество.
И вот почему первые основатели и законодатели государств язычников, ставившие себе единственной целью держать народ в повиновении и в мире, везде заботились прежде всего о том, чтобы внушить народу веру, будто те наставления, которые они дали в отношении религии, не являются их собственным изобретением, а продиктованы каким-нибудь богом или духом, иначе говоря, внушить народу, будто они сами выше простых смертных, с тем чтобы их законы могли быть легче всего приняты. Так, например, Нума Помпилий утверждал, что церемонии, установленные им среди римлян, были внушены ему нимфой Эгерией; первый царь и основатель царства Перу утверждал, будто он и его жена являются детьми солнца, а Магомет в целях утверждения своей новой религии заявлял, будто он совещался со Святым Духом, который являлся к нему в форме голубя. Указанные законодатели заботились, во-вторых, о том, чтобы внушить веру, будто те самые вещи, которые запрещены законами, неугодны также и богам. В-третьих, они предписывали церемонии, молебны, жертвоприношения и праздники и заботились о том, чтобы народ верил, будто этими средствами может быть умилостивлен гнев богов и будто неудачи на войне, большие эпидемии, землетрясения и частные несчастья каждого человека происходят от гнева богов, а этот гнев происходит от пренебрежительного отношения к их культу и от забвения или ошибочного понимания какого-нибудь пункта предписанных церемоний. И хотя среди древних римлян не запрещалось людям отвергать то, что поэты писали о страданиях и радостях после этой жизни и люди с большим авторитетом и весом в государстве открыто высмеивали эти писания в своих публичных выступлениях, однако вера поэтов всегда больше разделялась, чем противоположные взгляды.
И этими и другими подобными учреждениями языческие законодатели в согласии с их задачей (которая заключалась в упрочении мира в государстве) достигли того, что простой народ, возлагая вину в своих несчастьях на свое собственное нарушение или ошибочное исполнение религиозных церемоний или на свое собственное неповиновение законам, был менее всего склонен бунтовать против своих правителей. Забавляемый помпой и развлечениями празднеств и публичных игр, устроенных в честь богов, народ нуждался лишь в хлебе, чтобы не проявлять досады, ропота и возмущения против государства. И вот почему римляне, покорившие большую часть известного тогда мира, не колеблясь, допускали даже в самом городе Риме любую религию, если только она не заключала в себе чего-либо несовместимого с их гражданским правлением, и мы действительно нигде не находили указаний на то, чтобы там была запрещена какая-нибудь религия за исключением религии евреев, которые, будучи особым Царством Божьим, считали незаконным подчинение смертному царю или какому бы то ни было государству. Таким образом, мы видим, в какой мере религия язычников была частью их политики.
Однако там, где сам Бог основал религию посредством сверхъестественного откровения, там Он также установил особое царство для себя и дал законы, определяющие поведение людей не только по отношению к Нему Самому, но также и по отношению друг к другу; и так как в этом Царстве Божьем – политика и гражданские законы являются частью религии, то здесь нет различия между светской и духовной властью. Бог, правда, является царем всей земли, однако при этом Он может быть царем особого и избранного народа. В этом нет больше противоречия, чем в том, что человек, имеющий общее командование всей армией, одновременно с этим имел бы свой собственный полк или свою собственную роту. Царем всей земли Бог является в силу своего могущества, но царем своего избранного народа Он является в силу договора. Однако более подробно о Царстве Божьем, как о том, которое обусловлено естеством Бога, так и о том, которое обусловлено договором, я буду говорить в другом месте, ниже.
Из выяснения причин распространения религии нетрудно понять причины ее распада на ее первоначальные семена, или принципы, которыми являются лишь представление о божестве, о невидимых силах и о сверхъестественном. Эти семена никогда не могут быть в такой мере искоренены из человеческой природы, чтобы они не дали снова ростков новых религий при возделывании их такими людьми, которые обладают для этого подходящей репутацией. В самом деле, так как мы видим, что всякая оформленная религия основана прежде всего на доверии, которое масса имеет к какому-нибудь человеку, которого она считает не только мудрым и работающим для ее блага, но также и святым, которому Бог благоволит объявлять сверхъестественным путем свою волю, то отсюда по необходимости следует, что в том случае, когда те, которые управляют религией, станут подозрительны в отношении своей мудрости, искренности и любви к народу или когда они не окажутся способными привести какое-нибудь правдоподобное доказательство божественного откровения, – в этом случае сделается подозрительной и та религия, которую они желают поддержать, и (при отсутствии боязни светского меча) эту религию начнут оспаривать и отвергать.
Репутации мудрости лишается человек, основывающий религию или прибавляющий что-нибудь к уже основанной религии, если он предписывает противоречивые догматы веры, ибо обе части какого-нибудь противоречивого положения не могут быть верны, и потому предписывание веры в такие противоречивые догматы является доказательством невежества, разоблачающим их автора и дискредитирующим все то, что он стал бы предлагать на основании якобы сверхъестественного откровения, каковое откровение может в самом деле дать человеку многое такое, что превосходит естественный разум, но ничего такого, что идет вразрез с ним.
Репутации искренности основатели или завершители религии лишаются в том случае, когда они делают или говорят вещи, которые доказывают отсутствие у них самих той веры, которой они требуют от других людей. Такие действия или высказывания называются скандальными, так как они являются камнями преткновения, заставляющими людей спотыкаться на пути религии. Таковы несправедливость, жестокость, богохульство, корыстолюбие и сластолюбие. В самом деле, кто может поверить, что человек, обычно совершающий деяния, вырастающие из указанных корней, сам верит, что следует бояться такой невидимой силы, какой он пугает других людей за меньшие прегрешения?
Репутации человеколюбия эти люди лишаются, если они разоблачены в том, что они преследуют частные цели, то есть если вера, которой они требуют от других, служит – или, по видимости, служит – для приобретения исключительно для себя, или для себя в особенности, власти, богатства, почестей или обеспеченных наслаждений. Ибо те действия, которые служат для их собственного блага, рассматриваются, как совершенные в своих собственных интересах, а не из любви к другим.
Наконец, свидетельством, которое человек может привести в пользу своего божественного призвания, может служить лишь совершение чудес, или оправдавшееся пророчество (что тоже является чудом), или необычайное счастье. И вот почему когда к тем пунктам религии, которые получены от людей, совершавших такие чудеса, прибавляются другие пункты людьми, не могущими удостоверить свое призвание чудесами, то эти последние пункты приобретают не больше доверия, чем то, что было внушено авторам этих пунктов обычаем и законами того места, где они воспитывались. Ибо подобно тому, как в естественных вещах здравомыслящие люди требуют естественных доказательств и аргументов, точно так же в сверхъестественных вещах, прежде чем согласиться внутренне и от всего сердца, они требуют сверхъестественных доказательств (каковыми являются чудеса).
Что все приведенные моменты являются причинами ослабления человеческой веры, с очевидностью явствует из следующих примеров. Прежде всего, мы имеем пример сынов Израиля, которые, когда Моисей, доказавший им свое призвание чудесами и счастливым выводом их из Египта, отсутствовал всего лишь сорок дней, отступили от веры в истинного Бога, возвещенного им Моисеем, и, сделав своим богом золотого тельца, снова впали в идолопоклонство египтян, от которых они так недавно были освобождены. И опять, когда Моисей, Аарон, Иисус и то поколение, которое видело величие дела Бога в Израиле, умерло, встало новое поколение, поклонявшееся Ваалу. Так что с исчезновением чудес исчезла также и вера.
Дальше, когда сыновья Самуила, поставленные своим отцом судьями в Вирсавии, стали брать взятки и несправедливо судить, то народ Израиля не захотел больше иметь Бога своим царем на иных основаниях, чем Его имеют царем другие народы, и поэтому стал требовать от Самуила, чтобы он поставил над ним царя, как у прочих народов. Так, с исчезновением справедливости исчезла и вера постольку, поскольку евреи отрешили Бога от царствования над ними.
И если при упреждении христианской религии перестали существовать оракулы во всех частях Римской империи и число христиан благодаря проповеди апостолов и евангелистов чудесно росло с каждым днем и в каждом месте, то большая часть этого успеха может быть с полным основанием приписана тому презрению, которому подвергли себя языческие жрецы той эпохи своим развратом, корыстолюбием и фиглярничаньем перед государями. Точно так же отчасти по этой же причине была упразднена в Англии и во многих других частях христианского мира религия римской церкви, а именно поскольку ослабление добродетели в пастырях привело к ослаблению веры в народе. Отчасти же, однако, это случилось благодаря внесению схоластами в религию философии и учения Аристотеля, от чего возникло столько противоречий и нелепостей, что римское духовенство подверглось одновременно обвинению как в невежестве, так и в мошеннических намерениях, что побудило народ восстать против этого духовенства, против воли своих собственных государей, как во Франции и Голландии, или с их согласия, как в Англии.
Наконец, среди пунктов, объявленных римской церковью необходимыми предпосылками спасения, имеется так много явно имеющих целью предоставление выгод папе и его духовным подчиненным, имеющим пребывание на территориях других христианских государей, что, если бы эти последние не были заняты взаимной борьбой между собой, они могли бы так же легко, как это сделано было в Англии, изгнать из своих государств всякую иностранную власть без всякой войны или смуты. В самом деле, кто не видит, к чьей пользе клонится вера в то, что король не имеет своей власти от Христа, если его не короновал епископ? Что король, если он священник, не может жениться? Что вопрос о том, родился ли принц в законном браке или нет, должен быть решен властью Рима? Что подданные могут быть освобождены от верности своему королю, если этот король осужден за ересь римским двором? Что король (как Хилперик во Франции) по пустому поводу может быть отрешен от престола папой (как папой Захарием) и его королевство передано одному из его подданных? Что духовенство и монахи в любой стране должны быть изъяты по уголовным делам из юрисдикции своего короля? Или кто не видит, в чью пользу идут доходы от частных литургий и искупительные денежные пожертвования? Точно так же обстоит дело с другими проявлениями корысти, достаточными, чтобы умертвить самую живую веру, если (как я говорил) гражданские власти и обычаи поддерживают ее не больше, чем любое мнение, которое они имеют о святости, мудрости и честности их учителей. Таким образом, все происходившие в мире перемены в религии я могу приписать одной и той же причине, а именно распущенности духовенства, и это не только среди католиков, но также и в той церкви, которая в наибольшей мере испытала на себе влияние Реформации.
Глава XIII
О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей
Природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей, ибо хотя мы наблюдаем иногда, что один человек физически сильнее или превосходит умом другого, однако если сосчитать все вместе, то окажется, что разница между человеком и человеком не настолько велика, чтобы один человек, основываясь на ней, мог претендовать на какое-нибудь благо для себя, на которое другой человек не мог бы претендовать с таким же правом. В самом деле, что касается физической силы, то наиболее слабый имеет достаточно силы, чтобы путем тайных махинаций или в союзе с другими людьми, которым грозит та же опасность, убить наиболее сильного.
Что же касается умственных способностей (я оставляю в стороне искусства, имеющие свою основу в словах, и особенно искусство доходить до общих и непреложных правил, называемое наукой, каковыми правилами обладают немногие и то лишь в отношении немногих вещей, ибо они не являются врожденными способностями, родившимися с нами, а также не приобретены (как благоразумие) в процессе наблюдения над чем-то другим), то я нахожу в этом отношении даже большее равенство среди людей, чем в отношении физической силы. Ибо благоразумие есть лишь опыт, который в одинаковое время приобретается в равной мере всеми людьми в отношении тех вещей, которыми они с одинаковым усердием занимаются. То, на что, может быть, можно сослаться против вероятности этого равенства, есть лишь суетное представление о собственной мудрости, присущее всем людям, полагающим, что они обладают мудростью в большей степени, чем простонародье, то есть чем все другие люди, кроме них самих и немногих других, которых они одобряют потому ли, что они прославились, или же потому, что они являются их единомышленниками. Ибо такова природа человека. Хотя он может признать некоторых других более остроумными, более красноречивыми и более образованными, чем он, но он с трудом поверит, что имеется много людей таких же умных, как он сам. И это потому, что свой ум он наблюдает вблизи, а ум других – на расстоянии. Но это обстоятельство скорее говорит о равенстве, чем о неравенстве людей в этом отношении, ибо нет лучшего доказательства равномерного распределения какой-нибудь вещи среди людей, чем тот факт, что каждый человек доволен своей долей.
Из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение своих целей. И вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. И на пути к достижению их цели (которая состоит главным образом в сохранении жизни, одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. И таким образом, выходит, что там, где человек может противопоставить нападению лишь одни свои собственные силы, он, сажая, сея, строя или владея каким-нибудь приличным имением, может с вероятностью ожидать, что придут другие люди и соединенными силами отнимут его владение и лишат его не только плодов его трупа, но также жизни и свободы. А нападающий находится в такой же опасности со стороны других.
И из этого взаимного недоверия людей друг к другу нет более разумного пути для человека к обеспечению своей жизни, как принятие предупредительных мер, то есть силой или хитростью держать в узде всех тех, кого он может, до тех пор, пока не убедится, что нет другой силы, достаточно внушительной, чтобы быть для него опасной. И это не выходит из рамок мер, требуемых для самосохранения, и обычно считается допустимым. И так как среди людей имеются такие, которые ради одного наслаждения созерцать свою силу в актах завоевания ведут эти завоевания дальше, чем это требуется для обеспечения их безопасности, то и другие, которые в иных случаях были бы рады спокойно жить в скромных условиях, не были бы способны долго сохранять свое существование, если бы не увеличивали свою власть путем завоеваний и ограничились бы одной оборонительной позицией. Отсюда следует, что такое увеличение власти над людьми, поскольку оно необходимо для самосохранения человека, должно быть также последнему позволено.
Мало того, там, где нет власти, способной держать в подчинении всех, люди не испытывают никакого удовольствия (а напротив, значительную горечь) от жизни в обществе. Ибо каждый человек добивается того, чтобы его товарищ ценил его так, как он сам себя ценит, и при всяком проявлении презрения или пренебрежительного отношения, естественно, делает усилия, поскольку у него хватает смелости (а там, где нет общей власти, способной заставить людей жить в мире, эта смелость доходит до того, что они готовы губить друг друга), чтобы вынудить у своих хулителей более высокое уважение к себе: у одних – наказанием, у других – устрашающим примером.
Таким образом мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество, во-вторых, недоверие, в-третьих, любовь к славе.
Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами личности, жен, детей и скота других людей; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты, третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков, из-за слова, улыбки, из-за несогласия во мнениях и из-за других проявлений неуважения, непосредственно ли по их адресу или по адресу их родни, друзей, их нации, их сословия или их имени.
Отсюда очевидно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война не есть только сражение или акт битвы, а промежуток времени, в течение которою явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время и должно быть включено в понятие войны, так же как в понятие погоды. Подобно тому как природа дурной погоды не заключается в одном или двух ливнях, а в наклонности к этому в течение многих дней подряд, точно так же и природа войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном. Все остальное время есть мир.
Вот почему все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и их собственная изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как ни за кем не обеспечены плоды его труда, и потому нет земледелия, нет судоходства, нет морской торговли, нет удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания темной поверхности, нет исчисления времени, нет ремесла, нет литературы, нет общества, а что хуже всего – это вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, зверина и кратковременна.
Кое-кому, недостаточно взвесившему эти вещи, может показаться странным допущение, что природа так разобщает людей и делает их способными нападать друг на друга и разорять друг друга; не доверяя этому выводу, сделанному на основании страстей, он может быть пожелает иметь подтверждение того вывода опытом. Так вот пусть такой сомневающийся сам поразмыслит над тем обстоятельством, что, отправляясь в путь, он вооружается и старается идти в большой компании, что, отправляясь спать, он запирает двери, это даже в своем доме он запирает ящики, – и это тогда, когда он знает, что имеются законы и вооруженные агенты власти, готовые отомстить за всякую причиненную ему несправедливость. Какое же мнение имеет оно своих согражданах, отправляясь в путь вооруженным, какое мнение имеет оно своих согорожанах, запирая свои двери, о своих детях и слугах, запирая свои ящики? Разве он не в такой же мере обвиняет человеческий род своими действиями, как я моими словами? Однако никто из нас не обвиняет человеческой природы самой по себе. Желания и другие человеческие страсти сами по себе не являются грехом. Грехом также не могут считаться действия, проистекающие из этих страстей, до тех пор, пока люди не знают закона, запрещающего эти действия; а такого закона они не могут знать до тех пор, пока он не издан, а изданным он не может быть до тех пор, пока люди не договорились насчет того лица, которое должно его издавать.
Может быть, кто-нибудь подумает, что такого времени и такой войны, как изображенные мной, никогда не было; да и я не думаю, чтобы они когда-либо существовали как общее правило по всему миру. Однако есть много мест, где люди живут в таком состоянии и в настоящее время. Так, например, дикие народности во многих местах Америки не имеют никакого правительства, кроме власти маленьких родов-семей, внутри которых мирное сожительство обусловлено естественными вожделениями, и живут они по сю пору в том зверином состоянии, о котором я говорил раньше. Во всяком случае, какова была бы жизнь людей при отсутствии общей власти, внушающей страх, можно видеть из того образа жизни, до которого люди, жившие раньше под мирной властью правительства, обыкновенно опускаются во время гражданской войны.
И хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные люди находились в состоянии войны между собой, всегда короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости, находятся в состоянии непрерывной зависти и в положении и позе гладиаторов, направляющих оружие один против другого и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов среди своих соседей, что является состоянием войны. Но так как они при этом поддерживают промышленность своих подданных, то указанное состояние не приводит к тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц.
Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого здесь не имеют места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство являются на войне двумя кардинальными добродетелями. Справедливость и несправедливость не являются ни телесными, ни умственными способностями. Если они были бы таковыми, они, подобно ощущениям и страстям, должны были бы быть присущи и человеку, существующему изолированно. Справедливость и несправедливость являются качествами, имеющими отношение к людям, живущим в обществе, а не к людям, живущим в одиночестве. Указанное состояние характеризуется также отсутствием собственности, отсутствием владения, отсутствием точного разграничения между моим и твоим. Каждый человек считает своим лишь то, что он может добыть, и лишь до тех пор, пока он в состоянии удержать это. Всем предыдущим достаточно сказано о том плохом состоянии, в которое поставлен человек в естественном состоянии, хотя он имеет возможность выйти из этого положения – возможность, состоящую отчасти в страстях, а отчасти в его разуме.
Страсти, делающие людей склонными к миру, суть страх смерти, желание вещей, необходимых для хорошей жизни, и надежда своим трудолюбием приобрести эти вещи. А разум подсказывает подходящие условия мира, на основе которых люди могут прийти к соглашению. Эти условия суть то, что иначе называется естественными законами, о которых я более подробно буду говорить в следующих двух главах.
Глава XIV
О первом и втором естественном законе и о договорах
Естественное право, называемое обычно писателями jus naturale, есть свобода всякого человека использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, то есть собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что по его собственному суждению и разумению является наиболее подходящим для этого средством.
Под свободой, согласно точному значению этого слова, подразумевается отсутствие внешних препятствий, каковые препятствия могут часто лишить человека части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать ему использовать оставленную ему власть сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом.
Естественный закон, lex naturalis, есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни. Следует различать между jus и lex, между правом и законом, хотя те, которые пишут по этому предмету, обычно смешивают эти понятия, ибо право состоит в свободе делать или не делать, между тем как закон определяет и обязывает к тому или другому члену этой альтернативы, так что закон и право различаются между собой так же, как обязательство и свобода, которые несовместимы в отношении одной и той же вещи.
И так как состояние человека (как было указано в предыдущей главе) есть состояние войны всех против всех, в каковом состоянии каждый человек управляется своим собственным разумом, и нет ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средства для сохранения своей жизни, то отсюда следует, что в таком состоянии каждый человек имеет право на все, даже на жизнь всякого другого человека. Поэтому, до тех пор пока продолжается это естественное право всех на все, ни один человек, как бы силен или умен он ни был, не может быть уверен в том, что он сможет выжить все то время, которое природа обычно предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание или общее правило разума гласит, что всякий человек должен добиваться мира, поскольку у него есть надежда достигнуть его, если же он не может его достигнуть, то он может использовать всякие средства, дающие преимущество на войне. Первая часть этого правила содержит первый и фундаментальный естественный закон, гласящий, что следует искать мира и следовать ему; вторая часть есть содержание естественного права, сводящееся к праву защищать себя всеми возможными средствами.
От этого основного естественного закона, согласно которому люди должны стремиться к миру, производится другой закон, гласящий, что в случае согласия на то других людей человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по от ношению к другим людям, какую он допустил бы у других людей по отношению к себе. Ибо, до тех пор, пока каждый человек держится за это право делать все, что он хочет, до тех пор все люди находятся в состоянии войны. Однако если другие люди не желают следовать его примеру и отказаться от этого нрава, то нет никакого основания для кого бы то ни было лишиться его, ибо это означало бы скорее отдать себя на поток и разграбление (чего никто не обязан делать), чем показать свою готовность к миру. Этот именно закон Евангелие выражает в следующей форме: поступай п о отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе. А как закон всех людей он дан в формуле: quod tibi fieri non vis, alteri ne faceris (не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе).
Отказаться от человеческого права на что-нибудь значит отказаться от свободы лишить другого человека блага, заключающегося в собственном праве этого другого на то же самое. Ибо тот, кто отрекается или отступается от своего права, не дает этим ни одному человеку права, которым этот последний не обладал бы раньше, так как от природы все люди имеют право на все. Отказаться от своего права означает лишь самому устраниться с пути другого с тем, чтобы не препятствовать ему в использовании его первоначального права, но не с тем, чтобы никто другой не препятствовал ему. Таким образом, выгода, получаемая одним человеком от уменьшения права другого человека, состоит лишь в уменьшении препятствий к использованию им своего собственного первоначального права.
Отказ от права совершается или путем простого отречения от него, или путем перенесения его на другого человека. Простое отречение имеется в том случае, когда отказывающийся не интересуется тем, кому достанется благо этого права. Перенесение имеется в том случае, когда отказывающийся желает, чтобы благо этого права досталось определенному лицу или определенным лицам. А когда человек в той или другой форме или отказался от своего права, или уступил его кому-нибудь, тогда говорят, что этот человек обязан не препятствовать тем, кому это право было уступлено или предоставлено, в пользовании этим благом и что на нем лежат долг и обязанность не отменять этого своего собственного добровольного акта и что такое противодействие есть несправедливость, неправомерный акт, будучи sine jure (без права), так как данный человек отказался от своего права или уступил его. Неправомерность и несправедливость в мирских спорах подобны некоторым образом тому, что в спорах схоластов называется абсурдом. Ибо подобно тому, как мы в последнем случае называем абсурдом, когда человек противоречит тому, что он раньше утверждал, точно так мы в мирских делах говорим о несправедливости или неправомерности, когда человек произвольно разрушает то, что он раньше добровольно сделал. Простое отречение от права или перенесение права производится или путем соответствующего словесного заявления, или посредством произвольного знака или знаков, с достаточной ясностью обозначающих, что данный человек отрекается или переносит или что он отрекся или перенес свое право на того, кто его получает. Этими знаками являются или одни слова, или одни действия, или (как это чаще всего бывает) то и другое, слова и действия. И эти заявления, или знаки, являются обязательствами, которыми люди связываются и обязуются, причем сила этих обязательств лежит не в их собственной природе (ибо нет ничего легче для человека, чем нарушать свое собственное слово), а в боязни того зла, которое неминуемо влечет за собой их нарушение.
Когда человек переносит на другого свое право или отрекается от него, то он это делает или ввиду какого-нибудь права, которое взамен переносится на него самого, или ради какого-нибудь другого блага, которое он надеется этим путем приобрести. В самом деле, такое отречение или отчуждение является добровольным актом, а целью добровольного акта всякого человека является приобретение какого-нибудь блага для себя. Вот почему имеются некоторые права, о которых нельзя думать, чтобы кто-нибудь мог их словами или знаками уступить или отчуждать; прежде всего, человек не может отказаться от права оказать сопротивление тем, которые нападают на него с целью лишить его жизни, ибо нельзя думать, чтобы он надеялся приобрести таким путем какое-нибудь благо для себя. То же самое можно сказать о праве сопротивления нападению, имеющему целью нанести раны, наложить оковы или заключить в тюрьму, причем по двум соображениям: прежде всего, потому, что терпеливое снесение таких насилий не влечет за собой такого блага, какое влечет за собой терпеливое отношение к тому, что другой ранен или заточен в тюрьму; во-вторых, потому, что, когда человек видит, что на него наступают с целью совершить насилие, он не может сказать, имеют ли наступающие в виду его смерть или нет. И наконец, мотивом и целью при отречении от права или отчуждении его является гарантия безопасности человеческой личности, то есть сохранение жизни и обеспечение средств такого сохранения жизни, при котором последняя не стала бы утомительной. И вот почему, если имеется видимость, что человек словами или знаками отказывается от той цели, к которой эти знаки приурочены, то не следует думать, что таковы его действительное намерение и его действительная воля, а лишь то, что этот человек не знал, как должны быть истолкованы такие слова и действия.
Взаимное перенесение права есть то, что люди называют договором.
Следует различать между перенесением права на вещь и перенесением или передачей, то есть вручением, самой вещи. Ибо вещь может быть вручена одновременно с перенесением права, как, например, при покупке и продаже за наличный расчет или при обмене товаров или земель, и она может быть вручена некоторое время спустя.
Может быть и так, что один из контрагентов вручает вещь, предоставить которую он обязан по договору, и позволяет другому контрагенту выполнить его обязательства к определенному, более позднему сроку, оставаясь в промежутке его должником, и тогда участие первого контрагента в договоре называется соглашением; или обе стороны могут договориться теперь, что их взаимные обязательства будут выполнены после. В обоих этих случаях выполнение своих обязательств тем, кто должен их выполнить в будущем, называется сдержанием обещания или верностью, а невыполнение (если оно преднамеренно) – нарушением верности.
Когда перенесение права является не взаимным, а лишь одна из сторон переносит свое право на другую сторону в надежде приобрести этим дружбу последней или какую-нибудь услугу от нее или от ее друзей, или в надежде приобрести славу милосердного и великодушного человека или освободить душу от тяжелого чувства сострадания, или в надежде на награду за гробом, тогда это перенесение нрава является не договором, а даром.
Договор выражается знаками или непосредственно, или путем умозаключения из них. Непосредственно он выражается словами, обозначение которых ясно без дальнейшего. И такие слова могут относиться к настоящему или прошлому, например: я даю, я дарю, я дал, я подарил, я желаю, чтобы это принадлежало вам, или же такие слова могут относиться к будущему, например: я дам, я подарю, в каковом случае они называются обещанием.
Знаками, выражающими договор путем умозаключения из них, являются иногда слова, иногда молчание, иногда действия, иногда воздержание от действий – вообще все то, что достаточно выявляет волю договаривающегося.
Одни слова, относящиеся к будущему и содержащие голое обещание, являются недостаточным признаком добровольного приношения и поэтому не конституируют обязательства. Ибо если такие слова относятся к будущему, как, например, завтра я дам, то это является признаком того, что я еще не дал, и, следовательно, признаком того, что мое право еще не перенесено, а остается за мной до тех пор, пока я не перенесу его при помощи какого-нибудь другого акта. Если же слова относятся к настоящему или к прошедшему времени, как, например, я дал или я с тем даю, чтобы вручить завтра, тогда мое завтрашнее право уже отдано сегодня, и это в силу одних этих слов, хотя бы и не было другого доказательства моей воли. Существует огромная разница между значениями следующих слов: volo hoc tuum esse eras и eras dabo, т. e. между я желаю, чтобы это завтра принадлежало тебе, и я дам тебе это завтра, ибо в первой форме слова я желаю обозначают акт воли, совершающийся в настоящем, во второй же форме они обозначают обещание будущего акта воли. Вот почему первая фраза, относящаяся к настоящему, переносит будущее право, последняя же, относящаяся к будущему, ничего не переносит. Однако если имеются сверх слов другие признаки воли к перенесению права, тогда и в случае добровольного дара право может считаться отчужденным посредством слов, относящихся к будущему. Например, если человек предлагает премию тому, кто первый придет к финишу бега, то этот дар является добровольным, и хотя слова относятся к будущему, однако право переходит, ибо, если этот человек не желал бы, чтобы его слова были так поняты, он не стал бы побуждать людей к бегу.
В договорах право переходит не только в тех случаях, когда слова относятся к настоящему или к прошедшему времени, но также и в тех, когда они относятся к будущему времени, ибо договор есть взаимное перенесение или обмен прав. Вот почему и намерение того, кто лишь обещает, должно быть истолковано в том смысле, что он желает, чтобы его право перешло, ибо он уже получил то благо, за которое он обещает передать свое право, и если бы он не был согласен с таким истолкованием его слов, то другой контрагент не выполнил бы первым того, что лежит на нем. При покупке, продаже и других актах договора обещание по этой причине равносильно соглашению и является поэтому обязательным.
Если в случае договора один из контрагентов первым выполняет свои обязательства, то о нем говорят, что он заслуживает того, что он должен получить от выполнения своего обязательства вторым контрагентом, и что он имеет это как должное. Точно так же, если многим предложен приз, который должен быть вручен лишь тому, кто его выиграет, или если среди многих людей были брошены деньги, с тем чтобы ими воспользовались те, кто их поймает, то хотя это добровольный дар, однако выигравшие или поймавшие заслуживают этого и имеют это как должное, ибо право было перенесено в этом случае актом предложения приза и бросания денег, хотя лишь исход состязания должен был определить, на кого именно переносится это право. Однако между этими двумя видами заслуги существует та разница, что при договоре я заслуживаю в силу своей собственной власти и обязательства другого контрагента, в случае же добровольного дара моя способность заслуживать обусловлена доброй волей дающего. В случае договора я заслуживаю в отношении моего контрагента, что последний должен отречься от своего права, в случае же дара мое заслуживание не имеет того смысла, будто дающий обязан отречься от своего права, а лишь тот, что если он отрекся от него, то это право должно вернее принадлежать мне, чем кому либо другому. И это, как я полагаю, выражает смысл того различения, которое школы делают между meritum, congrui и meritum condigni. Ибо так как Господь всемогущий обещал рай тем людям (ослепленным плотскими вожделениями), которые могут шествовать по пути жизни согласно Его заветам и в предписанных Им пределах, то школы говорят, что тот, кто шествует таким образом, заслужит рай ex congruo (по договору). Однако так как ни один человек не обладает правдивостью и другими богоугодными качествами в такой мере, чтобы он мог претендовать на рай по праву, а он может надеяться получить его лишь как Господню милость, то схоласты говорят, что ни один человек не может заслужить рай ex condigno (в силу достоинств). Я говорю, что таков, как я понимаю, смысл этого различения. Однако, так как диспутанты соглашаются со значением их искусственных терминов лишь до тех пор, пока это им выгодно, я не желаю ничего утверждать насчет этого смысла, а говорю лишь следующее: если какой-нибудь дар дается неопределенно как приз тому, кто победит в состязании, то выигрывающий заслуживает приз и может претендовать на него как на нечто должное.
Если заключено соглашение, при котором ни одна из сторон не выполняет своих обязательств немедленно, а доверяет друг другу, то в естественном состоянии (которое есть состояние войны всех против всех) такое соглашение при мало-мальски обоснованном подозрении одной из сторон, что ее контрагент не выполнит своих обязательств, оказывается недействительным. Если же имеется стоящая над обеими партиями общая власть, имеющая право и достаточно сил, чтобы принудить к выполнению, то такое соглашение не недействительно. В самом деле, тот, кто первый выполняет условия соглашения, не имеет уверенности в том, что другой контрагент со своей стороны выполнит их потом, ибо там, где нет боязни принудительной власти, словесные обязательства слишком слабы, для того чтобы они могли обуздывать честолюбие, корыстолюбие, гнев и другие страсти; но такой принудительной власти нельзя предполагать в естественном состоянии, где все люди равны и сами решают, насколько справедливы их собственные опасения. Поэтому тот, кто первый выполняет условия соглашения, лишь выдает себя врагу, что противоречит праву (от которого он никогда не может отречься) защищать свою жизнь и средства к жизни.
Однако в гражданском состоянии, когда имеется власть, установленная для оказания принудительного воздействия на тех, которые без этого воздействия нарушили бы свое слово, такое опасение неосновательно, и потому тот, кто на основании соглашения должен первым выполнить зависящие от него условия, обязан так делать.
Причиной боязни, делающей такое соглашение несостоятельным, должно быть всегда нечто, возникшее после заключения соглашения как новый факт или как другое выявление воли к выполнению. В противном случае эта причина не может сделать это соглашение недействительным, ибо то, что не мешает человеку обещать, не может быть признано препятствием к выполнению.
Тот, кто переносит какое-нибудь право, переносит также, поскольку это в его власти, и средства использования этого права. Например, тот, кто продает участок земли, должен быть понят так, что он одновременно отчуждает и траву и все, что растет на этом участке, и не может тот, кто продает мельницу, отвести течение реки, приводящей эту мельницу в движение. А те, которые облекают человека правом верховной власти, должны быть поняты так, что они дают ему одновременно с этим право взимать налоги для содержания солдат, а также право назначения судей для отправления правосудия.
Невозможно заключение соглашения с животными, ибо последние, не понимая нашей речи, не понимают и не приемлют никакого перенесения права, точно также они неспособны переносить право на другого, а без взаимного получения нет соглашения.
Заключать соглашение с Богом можно лишь при посредстве тех, с которыми Бог общается путем сверхъестественного откровения, или при посредстве Его наместников, правящих под Ним и от Его имени, ибо иначе мы не знаем, принимает ли Бог наши условия или нет. Поэтому те, кто торжественно обещают нечто, противоречащее какому-нибудь естественному закону, обещают напрасно, ибо выполнение такого обещания было бы несправедливо. Если вам обещается нечто, диктуемое естественным законом, то источником обязательства является не обещание, а закон.
Предмет или содержание соглашения есть всегда нечто, составляющее объект обдумывания (ибо соглашение есть акт воли, то есть акт и последний акт обдумывания), и потому всегда понимается как нечто, что имеет быть в будущем и выполнение чего возможно для того, кто заключает соглашение.
И вот почему обещание заведомо невозможной вещи не есть соглашение. Однако если лишь впоследствии обнаружилась невозможность того, что раньше считалось возможным, соглашение действительно и обязывает (хотя не к выполнению обязательства в натуре), однако, к возмещению его денежного эквивалента; или, если и это невозможно, соглашение обязывает к добросовестному старанию выполнить столько, сколько возможно, ибо к большему нельзя обязать человека.
От обязательств, наложенных соглашением, люди могут быть освобождены двояким путем: путем выполнения и путем прощения. Выполнение есть естественный конец обязательства, а прощение есть восстановление свободы, являясь обратным перенесением того права, к которому сводилось обязательство.
Соглашение, заключенное под влиянием страха, является в естественном состоянии обязательным. Например, если я заключаю соглашение с врагом об уплате выкупом или службой за свою жизнь, то я таким соглашением связан, ибо такого рода соглашение является договором, при котором один получает благо жизни, другой должен получить взамен деньги или службу, и, следовательно, там, где нет другого закона (как это бывает в естественном состоянии), запрещающего выполнение подобного обязательства, соглашение имеет силу. Военнопленные поэтому, которым поверили на слово уплату выкупа, обязаны уплатить его. И если более слабый государь заключил под влиянием страха невыгодный мир с более сильным, то он обязан выполнить мирные условия, если только не возник (как это было указано раньше) новый и основательный повод для опасения, что война будет возобновлена. И если я даже в государстве вынужден, подчиняясь насилию, обещать какому-нибудь разбойнику деньги в качестве выкупа за свою жизнь, я обязан уплатить эти деньги, если гражданский закон меня не освобождает от этого обязательства. Ибо все то, что я могу на законном основании делать без обязательства, я могу законным образом путем соглашения делать и под влиянием страха. А соглашение, заключенное на законном основании, не может быть законным образом нарушено.
Более раннее соглашение аннулирует более позднее. Ибо человек, перенесший сегодня свое право на одного, не может его завтра переносить на другого, поэтому более позднее обещание не переносит никакого права, а является пустым звуком.
Соглашение, обязывающее меня не сопротивляться насилию, всегда недействительно. Ибо (как я это показал раньше) никто не может переносить или отречься от права спасать себя от смерти, увечья и заточения (избежание которых является единственной целью отказа от какого-либо права), и поэтому обещание не сопротивляться насилию не может переносить права каким бы то ни было соглашением и не является обязательным. И хотя человек может заключать такое соглашение: если я не сделаю того-то или того-то, убей меня, он не может заключать соглашения, гласящего: если я не сделаю того-то или того-то, я не буду сопротивляться вам, когда вы придете, чтобы меня убить. И это потому, что человек охотнее выбирает меньшее зло, которое в данном случае состоит в опасности смерти при сопротивлении, чем большее зло, а именно верную и неминуемую смерть при отказе от сопротивления. Истину этого положения подтверждают все люди, отправляя преступников к месту казни или в тюрьму под вооруженным конвоем, несмотря на то что эти преступники дали свое согласие на издание того закона, на основании которого они были осуждены.
Соглашение, обязывающее человека взять на себя какую-нибудь вину без уверенности, что он будет помилован, точно так же не имеет обязательной силы. Ибо в естественном состоянии, когда каждый человек является судьей, нет места для обвинения, а в состоянии гражданственности, когда за обвинением следует наказание, являющееся насилием, человек не может быть обязан не защищаться. То же самое верно в отношении обвинения тех близких, где осуждение является для человека несчастьем, как обвинение отца, жены или своего благодетеля. Ибо показания такого обвинителя, если они не даются добровольно, считаются пристрастными по естественным основаниям и поэтому не должны быть приняты во внимание, а там, где показания человека не встречают доверия, он не обязан их давать; точно так же не должны считаться решающими свидетельские показания, данные под пытками, ибо пытки должны быть применены как средство разгадки и проливания света в дальнейшем ходе следствия и поисков раскрытия истины, а признания, сделанные в этом случае, имеют целью облегчение страданий того, кого пытают, а не информирование тех, кто пытает, и потому они не должны заслуживать доверия как солидные свидетельские показания, ибо, избавляет ли себя человек от пыток правильными или ложными показаниями, он это делает по праву на сохранение своей собственной жизни.
Так как слова (как я раньше указал) слишком бессильны, чтобы заставить людей выполнять свои соглашения, то для увеличения их принудительной силы в человеческой природе имеются лишь два средства. Этими средствами являются или боязнь последствий нарушения своего слова, или желание славы и чувство гордости, побуждающие человека показать, что он не нуждается в нарушении своего слова. Этот последний фактор является слишком редко встречаемым благородством, чтобы на него можно было рассчитывать, особенно у тех, которые преследуют цели богатства, власти или чувственных наслаждений, а к ним принадлежит большая часть человечества. Страсть, на которую можно положиться, это страх, причем этот страх имеет два наиболее общих объекта. Первый объект – это сила невидимых духов; второй – сила тех людей, которым нарушение обещания нанесет ущерб. И хотя сила первых превосходит силы вторых, однако страх перед силой последних обычно сильнее страха перед силами первых. Страх перед первым есть в каждом человеке – его собственная религия – и имеет место в природе человека до возникновения гражданского общества. Страх второго рода не присущ человеку в период до возникновения гражданского общества или по крайней мере присущ не в такой степени, чтобы принудить человека к исполнению его обещаний, ибо в естественном состоянии неравенство сил определяется лишь исходом сражения. Таким образом, в период до возникновения гражданского общества или в те периоды, когда существование гражданского общества прервано гражданской войной, ничто не может укрепить силу заключенного мирного договора против искушений корыстолюбия, честолюбия, сладострастия и других сильных страстей, кроме боязни той невидимой силы, которую каждый человек почитает как бога и которой он боится как мстителя за вероломство. Поэтому все, что два человека, не подчиненные гражданской власти, могут сделать, это заставить один другого поклясться тем богом, которого он боится. Эта клятва есть форм а речи, которая прибавляется к обещанию и которой тот, кто обещает, обозначает, что в случае неисполнения им своего обещания он отказывается от милосердия своего бога или призывает на себя его месть. Такова была языческая форма: в противном случае пусть убьет меня Юпитер, как я убиваю это животное. Такова наша форма: я сделаю то-то и то-то, тому свидетель бог. Кроме того каждый из договаривающихся сопровождает свою клятву обрядами и церемониями, практикуемыми в его религии, с тем чтобы сделать страх перед вероломством еще более сильным.
Отсюда ясно, что обещание, подкрепленное другой формой речи, чем та, которая обычно применяется при клятвах, есть пустой звук и не является клятвой, а также что нельзя клясться именем предмета, которого клянущийся не почитает богом. Ибо хотя люди иногда имели обыкновение из страха или из лести клясться именем своих царей, однако они этим хотели отметить, что воздают последним божеские почести. Ясно также, что клясться без нужды именем Бога есть лишь профанация его имени, а клясться чем-нибудь другим, как это делают люди в обиходных разговорах, не есть клятва, а лишь нечестивая привычка, обусловленная слишком большой горячностью в разговорах.
Ясно также, что клятва ничего не прибавляет к обязательству. Ибо законное соглашение обязывает в глазах Бога без клятвы, так же как и с клятвой, незаконное же соглашение совсем не обязывает, даже если оно подкреплено клятвой.
Глава XV
О других естественных законах
Из того естественного закона, в силу которого мы обязаны переносить на другого те права, сохранение которых мешает водворению мира среди людей, вытекает третий естественный закон, именно тот, что люди должны выполнять заключенные ими соглашения, без чего соглашения не имеют никакого значения и являются лишь пустыми звуками, а раз при этом остается право всех на все, то люди продолжают находиться в состоянии войны.
И в этом естественном законе заключаются источник и начало справедливости. Ибо там, где не имело места предварительное заключение договора, не было перенесено никакое право, и все имеют право на все, и, следовательно, никакое действие не может быть несправедливым. А определением несправедливости является не что иное, как невыполнение договора. А все, что не несправедливо, справедливо.
Однако так как соглашения, имеющие своей основой взаимное доверие, недействительны там, где имеется опасение невыполнения на какой-нибудь стороне (как это было указано в предшествующей главе), то хотя источником справедливости является заключение договоров, в указанном случае, однако, нет фактической несправедливости до тех пор, пока не будет устранена причина опасения, что невыполнимо до тех пор, пока люди находятся в естественном состоянии. Вот почему, прежде чем слова справедливое и несправедливое могут иметь место, должна быть какая-нибудь принудительная власть, которая угрозой наказания, перевешивающего благо, ожидаемое людьми от нарушения ими своего соглашения, принуждала бы в одинаковой мере людей к выполнению их соглашений и упрочила бы ту собственность, которую люди приобретают путем взаимных договоров взамен отказа от универсального права. И такая власть может явиться лишь с основанием государства. К нашему заключению можно прийти также, исходя из определения справедливости, данного школами. Это определение гласит: справедливость есть неизменная воля давать каждому человеку его собственное. Таким образом, там, где нет собственного, то есть собственности, там нет несправедливости, а там, где нет организованной принудительной власти, то есть там, где нет государства, нет собственности, ибо там все имеют право на все. Поэтому там, где нет государства, нет несправедливости. Природа справедливости, таким образом, состоит в выполнении соглашений, имеющих обязательную силу, но обязательная сила соглашений начинается лишь с основания гражданской власти, достаточно сильной, чтобы принудить людей к выполнению своих соглашений, и с этим моментом совпадает также начало собственности.
Безумец говорил в душе своей, а иногда и языком: «Нет справедливости», серьезно доказывая, что так как каждый человек должен заботиться о своем самосохранении и об удовлетворении своих потребностей, то нет никакого основания, чтобы человек не мог делать того, что сего точки зрения ведет к достижению указанных целей, и вот почему как заключение, так и незаключение, как выполнение, так и невыполнение соглашений одинаково не противоречат разуму, если только они способствуют чьему-либо благу. Безумец при этом не отрицает, что существуют соглашения и что они иногда нарушаются, иногда же выполняются; он не отрицает также, что такое их нарушение можно назвать несправедливостью, а их соблюдение – справедливостью. Однако он спрашивает, не может ли иногда несправедливость, отвлекаясь от страха Божия (ибо тот же глупец сказал в душе своей: «Нет Бога!»), быть в полном согласии с тем разумом, который диктует каждому человеку преследовать свое собственное благо, и особенно в том случае, когда эта несправедливость ведет к такому благу, при наличии которого человек может пренебречь не только порицанием и бранью других людей, но также и их силой. Царство приобретается силой. Но что, если оно может быть приобретено несправедливым насилием? Будет ли это против разума приобрести царство таким путем, если это можно сделать без всякого ущерба для себя? А если это не противоречит разуму, то это не противоречит также справедливости, ибо иначе справедливость не могла бы быть признана добром. В силу таких рассуждений увенчанное успехом вероломство приобрело название добродетели, и кое-кто, кто во всех других случаях считал вероломство недопустимым, считал, однако, позволительным совершать его, когда дело идет о приобретении царства. А язычники, верившие, что Сатурн был свергнут своим сыном, Юпитером, тем не менее верили, что тот же Юпитер является мстителем за нарушенную справедливость. Это несколько напоминает странный закон, устанавливаемый Коком в его комментарии к Литлтону, где он говорит, что, если законный наследник короны изобличен в измене, он, однако, должен быть возведен на престол, и этим же самым будет погашено его преступление. Кое-кто будет склонен вывести из этих примеров то заключение, что если бесспорный наследник какого-нибудь царства убьет того, кто владеет этим царством, будь это даже его отец, то вы можете называть это несправедливостью или каким угодно именем, однако это никогда не может противоречить разуму, так как мы видим, что все произвольные действия людей имеют своей целью достижение блага для себя, и те действия, которые больше всего способствуют этой цели, являются наиболее разумными. Это рассуждение, несмотря на свою кажущуюся логичность, неправильно.
В самом деле, вопрос идет не о взаимных обещаниях там, где нет никакой уверенности в том, что эти обещания будут выполнены с какой-либо стороны, как, например, там, где нет гражданской власти, стоящей над обеими обещающими сторонами, ибо такого рода обещания не являются соглашениями. Вопрос идет о том, противоречит ли или не противоречит разуму, то есть выгоде одной стороны, выполнение этой стороной своего обещания там, где другая сторона уже выполнила свое обещание или где имеется сила, могущая принудить ее к выполнению. И я утверждаю, что выполнение своего обещания в последнем случае не противоречит разуму. Чтобы убедиться в этом, надо принять во внимание следующее. Во-первых, что если человек совершает какое-нибудь действие, которое по всему тому, что можно предвидеть и рассчитать, должно привести к его собственной гибели, то такое действие не становится разумным или мудрым оттого, что какое-нибудь случайное обстоятельство, которого указанный человек не мог предвидеть, обратило это действие ему на благо. Во-вторых, что в состоянии войны, в котором благодаря отсутствию общей власти, держащей всех в страхе, всякий является врагом всякого, ни один человек не может надеяться защищать себя от гибели собственными силами или собственным умом без помощи союзников, и всякий ждет той же зашиты от союза, как и всякий другой. Вот почему тот, кто объявляет, что он считает разумным обмануть тех, кто ему помогает, не может разумным образом рассчитывать ни на какие другие средства безопасности, кроме тех, которые предоставляют ему его собственные индивидуальные силы. Поэтому тот, кто нарушает свое соглашение и, следовательно, объявляет, что он считает такой образ действий согласным с разумом, может быть принят в какое-нибудь общество, составившееся в целях мира и самозащиты, разве лишь по ошибке тех, кто его принимает; а если он уже принят, то он может удержаться там только потому, что другие члены общества не видят опасности своей ошибки. Однако на такие ошибки человек не может разумным образом рассчитывать как на средства безопасности, и поэтому, если его не допустят в общество или выбросят из него, он погибнет. Если же он останется жить в обществе, то это возможно лишь благодаря ошибкам других людей, ошибкам, которые он не мог предвидеть и на которые он не мог рассчитывать. Из всего этого видно, что нарушение человеком заключенного им соглашения есть нечто противоречащее разуму, поскольку оно противоречит интересам безопасности самого нарушителя, ибо положение подобного человека таково, что не способствовать его гибели могут лишь люди, не понимающие, в чем заключается их собственная польза.
Предполагать же, что можно указанным путем обеспечить себе вечное блаженство за гробом, является фривольностью, ибо для достижения этой цели имеется лишь один возможный путь, а именно не нарушение, а соблюдение договоров.
Что же касается достижения верховной власти путем восстания, то очевидно, что такая попытка идет против разума, ибо хотя она и может увенчаться успехом, однако такого исхода нельзя разумным образом ожидать заранее, а с большей вероятностью можно ожидать противоположного исхода, и удачный исход, кроме того, может явиться соблазнительным примером для других добиваться той же цели подобными же средствами. Справедливость, то есть соблюдение соглашений, есть таким образом правило разума, запрещающего нам делать что-либо, что пагубно для нашей жизни, из чего следует, что справедливость есть естественный закон.
Некоторые идут дальше, утверждая, что естественный закон заключается не в правилах, ведущих к сохранению земной жизни человека, а в правилах, ведущих к достижению вечного блаженства после смерти, что, по их мнению, может быть достигнуто и нарушением договора, которое в этом случае будет справедливым и разумным (таковы те, которые считают делом доблести убийство, свержение или восстание против установленной над ними с их собственного согласия верховной власти). Однако так как мы не имеем естественного знания о состоянии человека после смерти, а еще меньше о том, как вознаграждается в этом состоянии вероломство, а все это мы принимаем лишь на веру от людей, которые утверждают, что имеют такое знание сверхъестественным путем или что они знают тех, которые знают других, которые знают третьих, имеющих такое сверхъестественное знание, то вероломство нельзя называть правилом разума или естественным законом.
Другие, соглашающиеся с тем, что сохранение верности есть естественный закон, делают, однако, исключение в отношении определенных лиц, например, еретиков и таких лиц, которые сами обычно не выполняют своих обязательств по отношению к другим. Однако и это против разума. Ибо если грех какого-нибудь человека является достаточным основанием, чтобы освободить нас от обязанности выполнения заключенного с ним соглашения, то этот же грех должен был бы служить таким же достаточным основанием, чтобы не заключать с ним соглашения.
Имена справедливое и несправедливое означают одно, когда они приурочены к людям, и другое, когда они приурочены к поступкам. Когда они приурочены к людям, они означают соответствие или несоответствие их характера разуму. Когда же они приурочены к поступкам, они означают соответствие или несоответствие разуму не характера или образа жизни, а отдельных поступков.
Справедливый человек есть поэтому такой, который прилагает все возможные усилия к тому, чтобы все его поступки были справедливы, а несправедливый – тот, кто этим пренебрегает. И к таким людям на нашем языке применяются чаще имена честный и бесчестный, чем справедливый и несправедливый, хотя и те и другие имена имеют одинаковый смысл. Честный человек поэтому не теряет своего доброго имени вследствие одного или нескольких несправедливых поступков, обусловленных внезапной страстью или непониманием вещей или лиц, а бесчестный человек не теряет своего характера вследствие таких поступков, которые он совершает или от совершения которых он страха ради воздерживается, ибо его воля определяется не чувством справедливости, а той предполагаемой выгодой, которую ему может дать его образ действий. Привкус справедливости придает человеческим поступкам известное (редко встречаемое) благородное или галантное мужество, не желающее быть обязанным какими-нибудь благами жизни хитрости или нарушению обещания. Эта справедливость характера и имеется в виду, когда называют справедливость добродетелью, а несправедливость – пороком. Справедливые поступки определяют людей не как справедливых, а как невинных, а несправедливые поступки, называемые правонарушениями, – лишь как виновных.
Кроме того, несправедливость характера есть предрасположение или наклонность к правонарушению и является несправедливостью еще до перехода в действие и независимо от того, имеется ли правонарушение по отношению к какому-нибудь индивидуальному лицу. Несправедливость же поступка (то есть правонарушение) предполагает наличие индивидуального лица, по отношению к которому совершено правонарушение, именно наличие лица, с которым заключено соглашение. И поэтому часто случается, что правонарушение совершено по отношению к одному лицу, между тем как материальный ущерб, проистекающий из этого правонарушения, нанесен другому. Так, например, если хозяин приказывает своему слуге дать деньги какому-нибудь постороннему человеку и это приказание не исполняется, то правонарушение совершено по отношению к хозяину, с которым слуга заключил раньше соглашение о повиновении, материальный же ущерб потерпел посторонний человек, по отношению к которому слуга не имел никакого обязательства и потому не мог совершить по отношению к нему никакого правонарушения. Точно так же в государствах могут частные люди прощать друг другу свои долги, но не могут прощать разбоев и других насилий, от которых они потерпели материальный ущерб, ибо неуплата долгов есть нарушение обязательства по отношению к ним самим, разбои же и насилия есть правонарушение по отношению к личности государства.
Все, что делается по отношению к какому-нибудь человеку согласно его воле, ясно выраженной, тому, кто делает, не есть правонарушение по отношению к нему. Ибо если тот, кто делает, не отрекся путем предварительного соглашения от своего первоначального права делать то, что желательно другому, то не имеется никакого нарушения соглашения и, следовательно, никакого правонарушения по отношению к другому. Если же такое соглашение было заключено, то ясно выраженная воля другого, чтобы желательное ему было сделано, освобождает того, кто делает, от его заключенного соглашения, и поэтому и в данном случае нет никакого правонарушения по отношению к другому.
Справедливость действий делится писателями на коммутативную (меновую) и дистрибутивную (распределительную). Первая, они говорят, состоит в арифметической пропорции, а вторая – в геометрической пропорции. Коммутативная справедливость поэтому, по их мнению, заключается в равноценности вещей, являющихся объектами договора, дистрибутивная – в наделении одинаковыми благами людей с одинаковыми заслугами. С этой точки зрения выходит, что было бы несправедливостью продавать дороже, чем мы покупали, или давать человеку больше, чем он заслуживает. Цена вещей, являющихся объектом договора, измеряется желанием договаривающихся сторон, и справедливой ценой поэтому является та цена, которую они согласны дать. Заслуга же (за исключением той, которая возникает из соглашения и где выполнение на одной стороне заслуживает выполнения на другой и которая подпадает под категорию коммутативной, а не дистрибутивной справедливости) оплачивается не по принципу справедливости, а вознаграждается лишь по принципу милости. И вот почему это различение в том смысле, как оно обыкновенно толкуется, неправильно. Собственно говоря, коммутативная справедливость есть справедливость контрагента, то есть выполнения соглашения на предмет покупки, продажи, найма и сдачи в наем, ссуды и займа, обмена и других актов договора. Дистрибутивная же справедливость есть справедливость арбитра, то есть акт определения того, что справедливо. Если арбитр (будучи уполномочен теми, кто его сделал арбитром) выполняет то, для чего он уполномочен, то о нем говорят, что он воздает каждому его собственное, и это в самом деле является справедливым распределением и может быть названо (хотя и неточно) дистрибутивной справедливостью, а более точно – беспристрастием, которое, как это будет показано в надлежащем месте, является также естественным законом.
Если справедливость обусловлена предварительным соглашением, то благодарность обусловлена предварительной милостью, то есть предварительным даром, и является четвертым естественным законом, который может быть формулирован таким образом, что человек, которому другой из одной милости оказывает благодеяние, должен стремиться к тому, чтобы тот, кто оказывает это благодеяние, не имел разумного основания раскаиваться в своей доброте. Ибо всякий человек дарит лишь с намерением приобрести этим какое-нибудь благо для себя. В самом деле, всякое дарение есть добровольный акт, а целью всякого добровольного акта человека является приобретение блага для себя. И если люди увидят себя обманутыми в этом, то исчезнет всякое основание для благоволения или доверия, следовательно, исчезнет всякая взаимопомощь, не будет никакого примирения людей между собой, и люди, таким образом, все еще будут оставаться в состоянии войны, что противоречит первому и основному естественному закону, предписывающему людям искать мира. Нарушение этого закона называется неблагодарностью и имеет такое же отношение к милости, какое справедливость имеет к обязательству, вытекающему из соглашения. Пятый естественный закон есть закон любезности, а именно что всякий человек должен приноравливаться ко всем остальным людям. Для понимания этого закона следует принять во внимание, что в зависимости от различия их склонностей люди в различной степени приспособлены к жизни в обществе, представляя в этом отношении нечто похожее на то, что мы наблюдаем в груде камней, собранных для постройки какого-нибудь здания. Ибо подобно тому, как строители выбрасывают как невыгодный и затруднительный тот камень, который благодаря своей шероховатости и неправильности формы отнимает у других больше пространства, чем он сам занимает, а благодаря своей жесткости не может быть сделан гладким, затрудняя этим стройку, точно так же не должен быть принят в общество или должен быть выброшен из него как негодный человек, который в силу шероховатости своей натуры стремится удержать за собой то, что для него является чем-то излишним, а для других – предметом необходимости, и который в силу непреклонности своих страстей не может быть исправлен. В самом деле, так как мы видим, что всякий человек не только по нраву, но также и в силу естественной необходимости должен употребить всевозможные усилия к приобретению того, что необходимо для его сохранения, то тот, кто будет противодействовать этому в отношении излишних для него вещей, является виновником той войны, которую такое противодействие повлечет за собой, и будет поэтому делать нечто, противоречащее основному естественному закону, предписывающему добиваться мира. Те, которые соблюдают этот закон, могут быть названы обходительными (римляне их называют commodi), противоположного характера люди называются упрямыми, не обходительными, своенравными, несговорчивыми.
Шестой естественный закон гласит, что при наличии гарантии в отношении будущего человек должен прощать прошлые обиды тем, которые, проявляя раскаяние, желают этого. Ибо прощение есть дарование мира. И хотя мир, дарованный тем, кто упорствует в своей враждебности, есть не мир, а страх, однако не даровать его тем, кто представляет гарантии насчет будущего, есть отвращение к миру и поэтому против естественного закона.
Седьмой закон гласит, что при от мщении (то есть при воздавании злом за зло) люди должны сообразоваться не с размерами совершенного зла, а с размерами того блага, которое должно последовать за отмщением. Этим законом запрещается нам руководствоваться при наложении наказания какой-либо иной целью, чем исправление преступника и предостережение других. Ибо этот закон последовательно вытекает из непосредственно предшествующего, предписывающего прощение при наличии гарантий в отношении будущего. Кроме того, месть, от которой нельзя ожидать, что она послужит предостерегающим примером, и, следовательно, нельзя ожидать никакой пользы в будущем, есть бесцельный триумф или торжество по поводу ущерба, нанесенного другому, ибо цель есть всегда нечто будущее, а бесцельное торжество есть хвастливость и идет против разума, а нанесение ущерба, несообразного с разумом, ведет к войне, следовательно, идет против естественного закона и обыкновенно именуется жестокостью.
И так как всякое проявление ненависти или презрения вызывает борьбу, поскольку большинство людей в таких случаях предпочитает скорее рисковать своей жизнью, чем оставаться неотмщенным, то мы можем на восьмом месте установить в качестве естественного закона правило, что ни один человек не должен делом, словом, выражением лица или жестом выказывать ненависть или презрение другому. Нарушение этого закона обыкновенно именуется нанесением оскорбления.
Вопрос о том, кто является лучшим человеком, не имеет места в естественном состоянии, где (как это было указано раньше) все люди равны. Существующее в настоящее время неравенство было введено гражданскими законами. Я знаю, что Аристотель в первой книге своей «Политики» устанавливает в качестве основы своей доктрины, что некоторые люди предназначены самой природой к управлению, именно наиболее мудрые (к каковым он причислял самого себя как философа), другие же предназначены к тому, чтобы служить (именно те, которые обладают сильными телами и не являются, подобно ему, философами), как будто разделение на хозяев и слуг было установлено не соглашением людей, а различием ума, против чего говорят не только разум, но и опыт. В самом деле, мало найдется таких дураков, которые не предпочитали бы сами управлять собой и не быть управляемыми другими; и те, которые считают себя мудрыми, не всегда и не часто и почти никогда не одерживают победы, когда они вступают в борьбу с теми, кто не доверяет собственной мудрости. Если природа поэтому сделала людей равными, то это равенство должно быть признано; если же природа сделала людей неравными, то равенство все же должно быть допущено, так как люди считают себя равными и вступят в мирный договор не иначе, как на равных условиях. Вот почему я в качестве девятого естественного закона устанавливаю здесь, что всякий человек должен признать других равными себе от природы.
Нарушение этого правила есть гордость. Из этого закона вытекает другой, а именно что при вступлении в мирный договор ни один человек не должен требовать предоставления себе какого-нибудь права, на предоставление которого любому другому человеку он не согласился бы. Подобно тому, как необходимо для всех людей, ищущих мира, отказаться от некоторых естественных прав, то есть отказаться от свободы делать все то, что им хочется, точно так же необходимо для человеческой жизни удержать некоторые права, как, например, право управлять своим собственным телом, пользоваться воздухом, водой, движением, дорогами для передвижения с места на место и всеми теми вещами, без которых человек не может жить или не может жить хорошо. Если в этом случае, то есть при заключении мира, люди требуют для себя того, чего они не желали бы предоставлять другим, то они поступают против предыдущего закона, предписывающего признание естественного равенства, и, следовательно, поступают так же против естественного закона. Те, которые соблюдают этот закон, называются скромными, а те, которые его нарушают, называются надменными. Греки называли нарушение этого закона πλεονεξία, то есть желание человека получить больше, чем приходится на его долю.
Точно так же если человек уполномочен быть судьей между человеком и человеком, то естественный закон предписывает, что бы он беспристрастно рассудил между ними. Ибо в противном случае споры между людьми могут быть разрешены лишь войной. Поэтому тот, кто пристрастен в роли судьи, делает все зависящее от него, чтобы отклонить людей от использования судей и арбитров и, следовательно (против основного естественного закона), является причиной войны.
Соблюдение этого закона о равном распределении и выдаче каждому того, что ему принадлежит по разуму, называется беспристрастием и является (как я говорил раньше) дистрибутивной справедливостью, нарушение же называется лицеприятием, по-гречески πρσωποληφία.
И отсюда следует другой закон, а именно что неделимые вещи должны быть, если это возможно, использованы сообща, при чем, если количество вещей позволяет, без ограничения, в противном же случае – пропорционально числу тех, которые имеют право, ибо иначе распределение было бы неравномерно и против беспристрастия. Однако имеются некоторые вещи, которые не могут быть ни делимы, ни использованы сообща. В этом случае естественный закон, предписывающий беспристрастие, требует, чтобы право владения в целом, или, иначе (если устанавливает с я поочередное пользование), первоочередное владение, предоставлялось по жребию. Ибо равномерное распределение требуется естественным законом, а другого способа равномерного распределения нельзя себе представить.
Жребий бывает двоякого рода: произвольный и естественный. Произвольный – это тот, который устанавливается соглашением конкурентов; естественный же – это или первородство (то, что греки называют χληρονομίο, то есть дано по жребию), или первый захват. Вот почему те вещи, которые не могут быть ни делимы, ни использованы сообща, должны быть присуждены первому владельцу, а в некоторых случаях перворожденному как приобретенные по жребию.
Естественным законом является также, что всем людям, которые являются посредниками мира, должна быть дана гарантия неприкосновенности. Ибо закон, предписывающий мир как цель, предписывает посредничество как средство, а средством для посредничества является гарантия неприкосновенности.
И так как даже при самой большей склонности людей к соблюдению законов могут, тем не менее, возникнуть вопросы в отношении действий человека: во-первых, совершено ли действие или не совершено, а во-вторых, совершено ли оно против закона или не против закона, из которых первый есть вопрос факта, а второй – вопрос права, то если заинтересованные стороны не соглашаются взаимно подчиниться решению третьего лица, они далеки от мира, как никогда. Этот третий, решению которого они подчиняются, называется арбитром. И отсюда естественный закон, гласящий, что в случае спора стороны должны подчинить свое право решению арбитра. И так как имеется, как мы видим, презумпция, что всякий человек делает все в видах своего собственного благополучия, требующего предоставления одинаковых выгод обеим сторонам, мы, предоставляя одной стороне право быть судьей, должны были бы предоставить такое же право и другой стороне, и таким образом спор, являющийся причиной войны, оставался бы в силе, что было бы против естественного закона. На том же основании никто не должен быть поставлен судьей в таком деле, при котором он явно извлекает больше пользы, чести или удовольствия от победы одной стороны, чем от победы другой, ибо это означало бы, что судья получил взятку (хотя и помимо своей воли) и никто не обязан был бы доверять ему. Таким образом, и в этом случае оставались бы в силе спор и состояние войны, что было бы против естественного закона.
А так как в спорах о факте судья не должен доверять одной стороне больше, чем другой (если нет других аргументов), то он должен доверять третьему лицу, или третьему и четвертому, или большему числу лиц, ибо иначе спор остался бы нерешенным, и его решение было бы предоставлено силе, что было бы против естественного закона.
Таковы естественные законы, диктующие мир как средство сохранения людей в массе и относящиеся лишь к учению о гражданском обществе. Имеются другие явления, ведущие к гибели отдельных людей, как, например, пьянство и другие проявления невоздержанности. Эти явления можно было бы также причислить к тем, которые запрещены естественным законом. Но говорить о них нет необходимости, да и не совсем уместно было бы сделать это здесь.
И хотя все вышеизложенное может показаться слишком тонкой дедукцией естественных законов, чтобы стать доступным всем людям, из которых большая часть слишком занята добыванием средств к жизни, а другая слишком небрежна, чтобы понять такую дедукцию, однако, для того чтобы никто из людей не мог оправдываться незнанием этих законов, они были резюмированы в одном легком правиле, доступном пониманию и самого неспособного человека. И это правило гласит: не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе. Это правило говорит и самому неспособному человеку, что в отношении естественных законов ему следует знать одно, а именно что, если, взвешивая действия других людей сего собственными, первые окажутся слишком тяжелыми, он должен положить их на другую чашку весов, а свои собственные действия на их место, с тем чтобы его собственные страсти и самолюбие ничего не прибавили к весу действий других людей. Усвоив себе это правило, он убедился в разумности всех естественных законов.
Естественные законы обязывают in forto interno, то есть обязывают желать их осуществляют, но они не всегда обязывают in foro externo, то есть к провидению их в жизни. Ибо тот, кто был бы скромен и мягок и выполнял бы все свои обещания в такое время и в таком месте, когда и где никто другой этого не делает, лишь отдал бы себя на поток и разграбление другим и готовил бы себе верную гибель, что идет вразрез с естественным законом, требующим сохранения жизни. С другой стороны, тот, кто, имея достаточные гарантии в том, что другие будут соблюдать по отношению к нему указанные законы, не соблюдает их сам, тот ищет не мира, а войны, следовательно, ищет своей гибели от насилия.
И всякий закон, обязывающий in forto interno, может быть нарушен не только действием, противоречащим закону, но также и действием, находящимся в согласии с законом, в том случае, когда человек считает это действие противоречащим закону. Ибо хотя его действие в этом случае согласно с законом, его нарушение, однако, направлено против закона, что является нарушением там, где обязательно лежит in forto interno.
Естественные законы неизменны и вечны. Ибо несправедливость, неблагодарность, надменность, гордость, криводушие, лицеприятие и остальные пороки никогда не могут стать правомерными, так как никогда не может быть, чтобы война сохраняла жизнь, а мир ее губил. Так как эти самые законы обязывают лишь к желанию и к усилиям – я имею в виду непритворные и неизменные усилия, – то их легко соблюдать. Ибо там, где законы требуют лишь соответствующих усилий, тот, кто делает усилия в направлении их выполнения, исполняет их, а тот, кто исполняет закон, справедлив.
И наука об этих законах есть истинная и единственная философия морали. Ибо философия морали есть не что иное, как наука о том, что есть добро и что есть зло в поступках и в человеческом обществе. Добро и зло суть имена, обозначающие наши расположения и отвращения, которые различны в зависимости от различий характера, привычек и образа мыслей людей. И разные люди различаются между собой своими суждениями не только в отношении ощущений, именно в отношении того, что приятно и что неприятно вкусу, обонянию, слуху, осязанию и зрению, но также и в отношении того, что сообразно или несообразно с разумом в человеческих действиях. Мало того, тот же самый человек в разное время различен, и одно время он хвалит, то есть называет благом, то, что в другое время он хулит и называет злом. Отсюда возникают диспуты, споры и в конце концов война. И поэтому до тех пор, пока человек находится в естественном состоянии, которое есть состояние войны, мерой добра и зла являются его частные расположения. Следовательно, все люди согласны с тем, что мир есть добро, и в силу этого добром, то есть моральными добродетелями, являются также пути или средства к миру, каковыми (как я раньше показал) являются справедливость, признательность, скромность, беспристрастие, прощение и все остальные естественные законы; противоположные же качества являются пороками, то есть злом. Наука же о добродетели и пороке есть философия морали, и поэтому истинное учение о естественных законах есть истинная философия морали. Однако, хотя писатели по вопросам философии морали признают указанные добродетели и пороки, они все же не видят, чем первые хороши; не понимая, что добродетели должны быть прославлены как средства к мирной общительной и удобной жизни, усматривают все их значение в том, что они умеренные страсти, как будто бы не причина, а степень дерзновения составляет мужество или же не причина, а размер дарения составляет щедрость.
Эти предписания разума люди обыкновенно называют законами, что, однако, не соответствует их сущности. Ибо эти предписания являются лишь заключениями или теоремами в отношении того, что ведет к сохранению и защите человеческой жизни, между тем как закон в собственном смысле означает предписание того, кто по праву повелевает другими. Однако, если мы рассматриваем эти самые теоремы как возвещенные Богом, повелевающим по праву всем, тогда они правильно названы законами.
Глава XVI
О личностях, доверителях и об олицетворенных вещах
Личностью является тот, чьи слова или действия рассматриваются или как его собственные, или как представляющие слова или действия другого человека или какого-нибудь другого предмета, которым эти слова или действия приписываются в действительности или посредством фикции.
Если слова или действия человека рассматриваются как его собственные, тогда этот человек называется естественной личностью. Если же эти слова или действия человека рассматриваются как представляющие слова или действия другого человека, тогда первый называется вымышленной или искусственной личностью.
Слово личность есть перевод латинского слова persona, вместо которого греки имеют слово πρόσωπον, обозначающее лик или вид подобно тому, как латинское persona обозначает наряд или внешний вид человека, представляемого на сцене, а иногда специально ту часть этого наряда, которая скрывает лицо, например, маску. И с театральных подмостков это название было перенесено на всякого, представляющего речь или действие как в судилищах, так и в театрах. Личность таким образом есть то же самое, что действующее лицо как на сцене, так и в жизненном обиходе, а олицетворять значит действовать или представлять себя или другого, а о том, кто действует за другого, говорится, что он носит его личность или действует от его имени, в каковом смысле это слово применяет Цицерон, когда он говорит: unus sustineo tres personas: mei, adversarii et judicis (я ношу три личности: мою собственную, моего противника и судьи). И такое действующее от имени другого лицо называется в разных случаях различно: представителем, заместителем, наместником, поверенным, депутатом, прокуратором, актером и т. п.
Что касается искусственных лиц, то слова и действия некоторых из них признаются как свои тем, кого они представляют. И тогда личность является действующим лицом, а тот, кто признает своими его слова и действия, является их виновником (author). В этом случае действующее лицо действует по полномочию. Ибо виновник в отношении действий есть то же самое, что собственник – по-латыни dominus, по-гречески χύριος – в отношении имущества и владения. И подобно тому, как право владения называется властью, так право производить какое-нибудь действие называется правомочием; так, под правомочием всегда понимается право производить какой-нибудь акт, а сделано по полномочию значит сделано по поручению или с разрешения того, кому это право принадлежит. Отсюда следует, что если представитель заключает соглашение по полномочию, то он этим связывает доверителя не в меньшей степени, чем если бы последний сам заключал это соглашение, и не в меньшей степени обязывает его ко всем вытекающим из соглашения последствиям. И поэтому все, что было сказано раньше о природе соглашения между человеком и человеком непосредственно, верно также и в том случае, когда это соглашение заключено их представителями или поверенными, имеющими от них полномочия, но лишь постольку, поскольку простираются эти полномочия.
Поэтому тот, кто заключает соглашение с чьим-либо представителем, не зная, каковы его полномочия, делает это на свой собственный страх и риск. Ибо никто не обязывается соглашением, на заключение которого он не давал полномочий, и, следовательно, соглашением, заключенным против его полномочий или сверх данных им полномочий.
Если представитель по приказанию доверителя делает что-либо против естественного закона, то в случае наличия предварительного соглашения о повиновении со стороны представителя нарушителем естественного закона является не представитель, а доверитель, ибо хотя действие противоречит естественному закону, однако не это действие, а, напротив, отказ от совершения этого действия был бы против естественного закона, запрещающего нарушать соглашения.
Если кто-либо заключает соглашение с доверителем при посредстве представителя, не зная размера полномочий последнего и лишь поверив ему на слово, то в случае если он на запрос, обращенный к доверителю о пределах полномочий представителя, не получил ясного ответа, его обязательство прекращается. Ибо соглашение, заключенное с доверителем, недействительно при отсутствии подтверждения со стороны последнего. Если же тот, кто заключает подобное соглашение, знал заранее, что ему нечего ожидать другого подтверждения, кроме заявления представителя, тогда соглашение действительно, ибо в этом случае представитель становится доверителем. Поэтому в случае действительности полномочий соглашение обязывает доверителя, если же полномочия фиктивны, соглашение обязывает лишь представителя, так как последний сам становится в данном случае на место доверителя.
Имеется мало вещей, которые не могут быть представляемы на основе фикции. Неодушевленные вещи, как церковь, больница, мост, могут быть представлены ректором, начальником, смотрителем. Однако неодушевленные вещи не могут быть доверителями, а потому и не могут давать полномочий своим представителям. Однако эти представители могут быть управомочены на получение своего содержания собственниками или управителями указанных учреждений. Вот почему такие вещи не могут быть представляемы до учреждения какого-нибудь гражданского правительства. Точно так же могут быть представлены опекунами или кураторами лишенные разума дети, идиоты и сумасшедшие, но последним (пока продолжается их неразумное состояние) не может быть вменено ни одно совершенное ими действие до тех пор, пока они не будут в состоянии разумно обсудить его (когда они будут в обладании своими умственными способностями). Однако тот, кто имеет власть над ними, может и в период их слабоумия дать полномочия опекуну, причем и это может иметь место лишь в состоянии гражданственности, ибо до такого состояния не может быть власти над лицами.
Идол, или образ воображения, может быть представляем. Так, например, языческие боги имели своих представителей в лице назначенных государством служителей культа и имели владения и другие имущества и права, посвященные и пожертвованные им людьми. Но идолы не могут быть доверителями, ибо идол ничто. Полномочия служителям культа давало государство, и поэтому до установления гражданского правления языческие боги не могли иметь представителей.
Истинный Бог может иметь представителей. Первым таким представителем был Моисей, управляющий сынами Израилевыми (бывшими не его народом, а народом Бога) не от своего имени, заявляя: так сказал Моисей, а от имени Бога: так сказал Господь. Вторым был Сын человеческий, его собственный Сын, наш пресвятой Спаситель, Иисус Христос, пришедший не от себя, а как посланец своего Отца, чтобы обратить евреев и ввести все народы в Царство своего Отца. Третьим был Святой Дух, говорящий и действующий в апостолах, каковой Святой Дух пришел не от себя, а был послан Отцом и Сыном.
Большое число людей становится одним лицом, когда оно представлено одним человеком, или одним лицом, если на это представительство имеется согласие каждого из представляемых в отдельности. Ибо единство лица обусловливается единством представителя, а не единством представляемых. И лишь представитель является носителем лица и именно единого лица, а в отношении многих единство может быть понято лишь в этом смысле.
А так как совокупность многих есть не один, а многие, то в этом случае нельзя говорить об одном, а о многих доверителях в отношении того, что представитель говорит или делает от их имени. Дело обстоит таким образом, что каждый человек из этой совокупности дает своему общему представителю полномочия от себя отдельно, и если это неограниченные полномочия, то каждому вменяются все действия, совершенные представителем. Если же доверители ограничивают своего общего представителя в отношении объекта и размеров полномочий, то никому из доверителей не вменяется больше, чем простираются их полномочия.
Если же представительство состоит из многих людей, то голос большинства их должен быть рассматриваем как голос всех. Ибо если (к примеру) меньшее число высказывается в утвердительном смысле, а наибольшее число – в отрицательном, то числа высказавшихся в отрицательном смысле более чем достаточно, чтобы покрыть число высказавшихся в утвердительном смысле, и, таким образом, избыточные отрицательные голоса, оставшиеся непокрытыми противоположными голосами, являются единственными голосами представительства.
А представительство, которое состоит из четного числа людей, особенно если это число невелико, и в котором противоположные голоса распределены равномерно, часто бывает немым и неспособным к действию. Однако в некоторых случаях равномерное распределение противоположных голосов может решать вопрос. Например, при обвинении или оправдании равенство противоположных голосов судей уже одним тем, что оно не может служить к обвинению, ведет к оправданию, но не ведет, наоборот, к обвинению там, где оно не привело к оправданию. Ибо не выносить обвинительного приговора по выслушиванию дела значит оправдать, но сказать, что неоправдание есть обвинение, было бы неверно. То же самое верно, когда решается вопрос о том, привести ли приговор немедленно в исполнение или отсрочить на некоторое время его исполнение. Ибо когда голоса в этом случае разделяются поровну, то отсутствие постановления о немедленном исполнении есть постановление об отсрочке.
Если же имеется нечетное число, например, три или больше (людей или собраний), из которых каждая единица имеет право своим отрицательным голосованием аннулировать утвердительное голосование всех остальных, то такое число не является представительством. Ибо при разнообразии интересов и мнений людей такое представительство часто и в случаях, чреватых большими последствиями, становится немым лицом и неспособным как ко многим другим вещам, так и к управлению людской массой, особенно во время войны.
Ответственными за действия других лиц бывают люди двоякого разряда. Одни – это доверители, которые согласно моему предыдущему определению просто признают своими действия других лиц. Ко второму разряду относятся те, которые признают своим действие или соглашение, заключенное другим человеком, условно, то есть они обязуются выполнить обязательства, взятые на себя другим человеком, если последний их не выполнит или не выполнит к определенному сроку. И такие условно ответственные лица называются обыкновенно поручителями, по-латыни fidejussores и sponsores, а в частности, если речь идет об обязательстве уплатить долги другого, – praedes, а если речь идет о том, чтобы предстать пред судом или магистратом, – vades.
Часть II
О Государстве
Глава XVII
О причинах Государства, об его возникновениии его определении
Конечной причиной, целью или намерением людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при наложении на себя той узды (которою они связаны, как мы видим, живя в государстве) является забота о своем самосохранении и о более благоприятной жизни при этом. Иными словами, при установлении государства люди руководятся стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося (как было показано) необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и принуждающей их угрозой наказания к выполнению их соглашений и к соблюдению естественных законов, изложенных в четырнадцатой и пятнадцатой главах этой книги.
В самом деле, естественные законы сами по себе (как справедливость, беспристрастие, скромность, милосердие и (в общем) поведение по отношению к другим такое, какого мы желали бы по от ношению к себе), без страха какой-нибудь силы, заставляющей их соблюдать, противоречат нашим естественным страстям, влекущим нас к пристрастию, гордости, мести и т. п. А соглашения без содействия меча суть лишь слова, не обладающие никакой силой гарантировать человеку безопасность. Вот почему, несмотря на наличие естественных законов (которым каждый человек следует тогда, когда он желает им следовать, когда он может делать это без всякой опасности для себя), всякий человек будет и может вполне законно применять свою собственную физическую силу и ловкость, чтобы обезопасить себя от всех других людей, если нет установленной власти, достаточно сильной, чтобы обеспечить нам безопасность.
Действительно во всех местах, где люди жили маленькими родами, было промыслом грабить друг друга; и это настолько не считалось противным естественным законам, что, чем больше человек награбил, тем больше это доставляло ему чести. И люди не соблюдали в этих делах никаких других законов, кроме законов чести, а именно: они воздерживались от жестокости, оставив людям их жизнь и сельскохозяйственные орудия. И подобно тому, как маленькие роды тогда, так теперь города и королевства расширяют свои владения (для собственной безопасности) и под всякими предлогами: опасности, боязни завоеваний или помощи, которая может быть оказана завоевателю, – стараются изо всех сил подчинить и ослабить своих соседей открытой силой и тайными махинациями; и, поскольку нет других гарантий безопасности, они поступают вполне справедливо, и в позднейшие века их вспоминают за эти деяния со славой.
Гарантией безопасности не может служить также объединение небольшого числа людей, ибо малейшее прибавление к небольшому числу на той или на другой стороне доставляет этой стороне такое большое преимущество в отношении физической силы, которое вполне обеспечивает ей победу и потому поощряет к завоеванию. То количество сил, которому мы можем доверять в отношении нашей безопасности, определяется не известным числом, а его отношением к силам врага, и в том случае достаточно для нашей безопасности, когда избыток сил на стороне врага не так велик, чтобы он мог решить исход войны и побудить врага к нападению.
И пусть мы имеем перед собой какое угодно множество людей, однако если каждый из них будет руководствоваться в своих действиях своими частными суждениями и частными стремлениями, то такое общество не может ожидать ни защиты, ни покровительства ни против общего врага, ни против несправедливостей, причиненных друг другу. Ибо, будучи несогласны во мнениях относительно лучшего использования и применения своих сил, они не содействуют, а мешают друг другу, и своим взаимным противодействием они сводят свои силы к нулю, вследствие чего они не только легко могут быть покорены немногочисленным, но тесно сплоченным врагом, но и при отсутствии общего врага они ведут друг с другом войну за свои частные интересы. В самом деле, если бы мы могли предположить, что большая масса людей согласна соблюдать правила справедливости и другие естественные законы при отсутствии общей власти, держащей их в страхе, то мы с таким же основанием могли бы предположить то же самое и относительно всего человеческого рода, и тогда не существовало бы, да и не было бы никакой необходимости в существовании гражданского правления или государства, ибо тогда существовал бы мир без подчинения.
Для безопасности, которую люди желали бы продлить на все время их жизни, недостаточно, чтобы они управлялись и направлялись единой волей в течение ограниченного времени, например, в продолжение сражения или войны. Ибо хотя они и одерживают победу благодаря своим единодушным усилиям против иноземного врага, однако затем, когда нет общего врага или когда того, кого одна партия считает врагом, другая партия считает другом, они в силу различия своих интересов должны по необходимости разобщаться и снова быть ввергнутыми в междоусобную войну.
Некоторые живые существа, как, например, пчелы и муравьи, живут, правда, дружно между собой (почему они Аристотелем и причислены к общественным животным), а между тем каждое из этих живых существ руководствуется лишь своими частными суждениями и стремлениями, и они не обладают способностью речи, при помощи которой одно из них могло бы сообщить другому, что оно считает необходимым для общего блага. Вот почему кто-нибудь, может быть, пожелал бы узнать, почему род человеческий не может точно так же жить. На это я отвечаю следующее.
Во-первых, люди непрерывно конкурируют между собой, добиваясь почета и чинов, чего указанные существа не делают, и, следовательно, на этом основании среди людей возникают зависть и ненависть, а в заключение и война, чего среди тех существ не бывает.
Во-вторых, у указанных существ общее благо совпадает с благом каждого отдельного индивидуума, и, будучи от природы склонны к преследованию своего частного блага, эти существа тем самым творят общее благо. Человеку же, самоуслаждение которого состоит в сравнении себя с другими людьми, может приходиться по вкусу лишь то, что возвышает его над этими другими.
В-третьих, указанные существа, не обладая разумом, не видят и не думают, что видят какие-нибудь ошибки в управлении их общими делами, между тем как среди людей имеются многие, которые считают себя более мудрыми и более способными управлять государственными делами, чем другие, и эти многие стремятся реформировать и обновлять государственный строй, один – одним путем, другой – другим, и этим вносят в государство расстройство и гражданскую войну.
В-четвертых, хотя указанные существа и обладают некоторой способностью пользоваться своим голосом, чтобы дать знать друг другу о своих желаниях и о других своих страстях, однако они не обладают тем искусством пользоваться словами, при помощи которого некоторые люди умеют представить другим добро злом и зло добром и преувеличить или преуменьшить по своей воле видимые размеры добра и зла, внося беспокойство в душу людей и смущая их мир.
В-пятых, неразумные существа не умеют различать между не правомерностью и материальным ущербом и поэтому до тех пор, пока им хорошо живется, они живут в мире со своими сотоварищами, между тем как человек становится наиболее беспокойным именно тогда, когда ему лучше всего живется, так как тогда он любит показывать свою мудрость и контролировать действия тех, которые управляют государством.
Наконец согласие указанных существ обусловлено природой, согласие же людей – соглашением, являющимся чем-то искусственным. Вот почему нет ничего удивительного в том, что, для того чтобы сделать это согласие постоянным и длительным, требуется еще кое-что (сверх соглашения), а именно общая власть, держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему благу.
Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиненных друг другу, и таким образом доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, – такая общая власть может быть воздвигнута одним лишь путем, а именно путем сосредоточения всей власти и всей силы в одном человеке или в собрании людей, которое методом большинства голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю. Иначе говоря, для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или собрание людей, которые явились бы представителями их лица; чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего того, что носитель общего лица будет сам делать или заставит других делать в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил в этих вопросах свою волю и свое суждение воле и суждению носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему твое право и будешь санкционировать все его действие. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни civitas. Таково рождение того великого Левиафана, или, вернее, выражаясь более почтительно, того смертного бога, которому мы под владычеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, данным им каждым отдельным человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной, сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способным направлять волю всех людей к миру внутри и к взаимной помощи против внешнего врага. И в этом человеке или собрании лиц состоит сущность государства, которая может быть определена как единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как оно сочтет это необходимым для их мира и общей защиты.
И тот, кто является носителем этого лица, называется сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной властью, а всякий другой является его подданным.
Для достижения верховной власти имеются два пути. Один путь – это физическая сила, например, когда человек заставляет своих детей под угрозой погубить их в случае их отказа подчинить себя и своих детей его правлению или путем войны подчиняет своих врагов своей воле, даруя им на этом условии жизнь. Второй путь – это когда люди соглашаются добровольно между собой подчиниться человеку или собранию людей в надежде, что этот человек или это собрание сумеет защитить их против всех других. Государство, основанное этим последним путем, может быть названо политическим государством или государством, основанным на установлении, а государство, основанное первым путем, – государством, основанным на приобретении.
И в первую очередь я буду говорить о государстве, основанном на установлении.
Глава XVIII
О правах суверенов в государствах, основанных на установлении
Мы говорим, что государство установлено, когда множество людей сговаривается и заключает соглашение каждый с каждым в том, что в целях водворения мира среди них и защиты против других людей каждый из них будет признавать как свои собственные все действия и суждения того человека или собрания людей, которому большинство дает право представлять лицо всех (то есть быть их представителем) независимо от того, голосовал ли он за этого человека или собрание или против них.
Из этого установления государства производятся все права и способности того или тех, на кого соглашением собравшегося народа перенесена верховная власть.
Во-первых, так как народ заключает соглашение, то следует разуметь, что он не обязался каким-нибудь предыдущим соглашением к чему-нибудь, противоречащему данному соглашению. Следовательно, те, которые уже установили государство и, таким образом, обязались соглашением признавать как свои действия и суждения одного, не могут правомерно без разрешения этого человека заключать между собой новое соглашение, в силу которого они были бы обязаны подчиняться в чем-либо другому человеку. Поэтому те, которые являются подданными монарха, не могут без его разрешения свергнуть монархию и вернуться к хаосу разобщенной толпы или перенести свои полномочия с того, кто является их представителем, на другого человека или другое собрание людей, ибо они обязались, каждый перед каждым, признавать своими и считать себя ответственными за все, что их суверен будет делать или сочтет уместным делать, и таким образом, если бы хоть один человек не дал своего согласия, все остальные нарушили бы свои обязательства по отношению к нему, что является несправедливостью, а так как, кроме того, каждый из них отдал верховную власть тому, кто является носителем их лица, то, свергая последнего, они отнимают у него то, что ему принадлежит по праву, что является опять-таки несправедливостью. Кроме того, если бы тот, кто покушается на власть своего суверена, был последним убит или наказан за эту попытку, то наказуемый был бы сам виновником своего наказания согласно обязательству, взятому на себя при установлении государства, признавать как исходящее от него самого все то, что его суверен будет делать. А так как для всякого человека является несправедливостью делать что-нибудь, за что он, по собственному признанию, заслуживает наказания, то покушение на права суверена уже и на этом основании является несправедливостью. И если некоторые люди ссылались в оправдание своего неповиновения своим суверенам на новое соглашение, заключенное не с людьми, а с Богом, то и это неправильно, ибо соглашение с Богом может быть заключено лишь при посредстве лица, представляющего личность Бога, каковым может быть лишь наместник Бога, обладающий верховной властью под владычеством Бога. Однако эта ссылка на соглашение с Богом является такой очевидной ложью даже перед собственной совестью тех, которые ссылаются на это, что она не только является несправедливым актом, но и свидетельствует о низком и не мужественном характере.
Во-вторых, так как право носить лицо всех, участвовавших в соглашении, дано тому, кого они делают сувереном путем соглашения, заключенного лишь друг с другом, а не сувереном с кем-нибудь из них, то не может иметь места нарушение соглашения со стороны суверена, и, следовательно, никто из его подданных не может быть освобожден от подданства под предлогом нарушения каких-либо обязательств со стороны суверена. Что тот, кто сделан сувереном, не заключает предварительного соглашения со своими подданными – очевидно, ибо он должен был бы заключить это соглашение или со всей толпой как единым контрагентом, или же с каждым человеком в отдельности. Однако со всей толпой как единым контрагентом он не может заключать соглашения, так как до установления государства эта толпа не является единым лицом, а если он заключил много отдельных соглашений соответственно числу индивидуумов, из которых состоит толпа, то эти соглашения по приобретении им верховной власти становятся недействительными, ибо любой акт, на который какой-нибудь представитель этой толпы может указать как на нарушение договора, является актом суверена и всех остальных, так как он совершен от лица и по праву каждого из них в отдельности. Кроме того, если кто-либо один или несколько человек утверждают, что суверен нарушил договор, заключенный им при установлении государства, а другие, или кто-либо другой из его подданных, или суверен сам утверждает, что никакого нарушения не было, то в этом случае не имеется судьи для решения этого спора, и мы снова таким образом отброшены назад к праву меча, и каждый человек снова получает право защищать себя своей собственной физической силой, что противоречит цели, поставленной себе людьми при установлении государства. Тщетной попыткой поэтому является предоставление кому-либо верховной власти на основе предварительного соглашения с ним. Мнение, будто какой-либо монарх получает свою власть на основе соглашения с ним, то есть на известных условиях, вытекает из непонимания той простой истины, что соглашения являются лишь словами и сотрясением воздуха и обладают силой обязать, сдерживать, ограничить и защитить человека лишь постольку, поскольку им приходит на помощь меч государства, то есть несвязанные руки того человека или собрания людей, которые обладают верховной властью и чьи действия санкционированы всеми подданными и совершены силой всех подданных, объединенных в лице суверена. Однако, когда собрание людей сделано сувереном, тогда никто не воображает, что такого рода соглашение могло иметь место при учреждении его власти, ибо никто не будет так глуп, чтобы сказать, что, например, население Рима заключило соглашение с римскими подданными в том, что оно будет держать верховную власть на таких и таких условиях, при нарушении которых римские подданные имеют право свергнуть власть населения Рима. Что люди не замечают, что то, что верно в отношении народного правления, верно также в отношении монархии, проистекает из честолюбия некоторых, расположенных больше к правлению собрания, в котором они могут питать надежду участвовать, чем к монархии, при которой у них нет никакой надежды участвовать в правлении.
В-третьих, если большинство согласным голосованием объявило кого-нибудь сувереном, то несогласный с этим постановлением большинства должен по выяснении указанного результата или согласиться с остальными, то есть согласиться признавать все действия, которые будут совершены сувереном, или он может по праву быть истребленным остальными. Ибо если он добровольно вступил в конгрегацию тех, которые собрались, то он тем самым в достаточно ясной форме объявил свою волю (и этим принятое на себя молчаливо обязательство) подчиняться всему тому, что большинство постановит, и поэтому, если он отказывается подчиниться этому или протестует против какого-нибудь постановления этого большинства, он этим нарушает свой договор и поступает несправедливо. Да и независимо от того, вступил ли он в конгрегацию или нет, был ли он спрошен о своем согласии или нет, он должен или подчиниться постановлению большинства, или быть оставленным в прежнем состоянии войны, при котором любой человек, не нарушая справедливости, может убить его.
В-четвертых, так как благодаря указанному установлению каждый подданный является ответственным за действия и суждения установленного суверена, то отсюда следует, что все, что бы последний ни делал, не может быть неправомерным актом по отношению к кому-либо из своих подданных, и он не должен быть кем-либо из последних обвинен в несправедливости. Ибо тот, кто делает что-либо, на что он уполномочен другим, не может этим совершить неправомерного акта по отношению к тому, кем он уполномочен. При установлении же государства каждый отдельный человек является доверителем в отношение всего того, что суверен делает, и, следовательно, всякий, кто жалуется на несправедливость со стороны суверена, жалуется на то, виновником чего он сам является, и он поэтому должен обвинять лишь самого себя. Да и самого себя он не должен обвинять, ибо невозможно совершать несправедливость по отношению к самому себе. Верно то, что люди, облеченные верховной властью, могут совершить акты пристрастия, но не несправедливость и беззаконие в собственном смысле.
В-пятых – и как вывод из только что сказанного, – ни один человек, облеченный верховной властью, не может быть по праву казнен или как-нибудь иначе наказан кем-либо из своих подданных. Ибо каждый подданный, как мы видели, является ответственным за действия своего суверена. Наказывая суверена, подданный, следовательно, наказывает другого за действия, совершенные им самим.
И так как целью учреждения верховной власти являются мир и общая защита, а право на цель дает право и на ведущие к ней средства, то к правам человека или собрания, обладающего верховной властью, относится также быть судьей в отношении средств мира и защиты, а также в отношении того, что мешает и препятствует осуществлению того и другого. Суверен, таким образом, имеет право предпринять все то, что он считает необходимым в целях сохранения мира и безопасности путем предупреждения раздоров внутри и нападения извне, а когда мир и безопасность исчезли, предпринять все то, что он считает необходимым для их восстановления. И поэтому, в-шестых, в компетенцию верховной власти входит быть судьей в отношении того, какие мнения и учения препятствуют и какие содействуют водворению мира и, следовательно, в каких случаях, в каких рамках и каким людям может быть предоставлено право обращаться с речами к народной массе и кто должен рассматривать доктрины всех книг раньше, чем их опубликовать. Ибо действия людей обусловлены их мнениями, и в хорошем управлении мнениями состоит хорошее управление действиями людей в целях водворения среди них мира и согласия. И хотя единственным критерием годности или негодности учения должна быть истина, однако это не мешает тому, чтобы учения регулировались также с точки зрения их содействия или препятствования делу мира. Ибо учение, противодействующее миру, не может быть в большей мере истинным, чем мир и согласие могут быть против естественного закона. Верно то, что в государстве, в которое благодаря небрежности или неловкости правителей или учителей с течением времени проникли и вошли в общий обиход ложные учения, противоположные истинные учения могут быть, вообще говоря, вредны. Однако самое неожиданное и внезапное вторжение какой-нибудь новой истины никогда не может нарушить мира, а может лишь иногда быть причиной войны. Ибо люди, которые до того нерадиво управляются, что они смеют поднять оружие для защиты или для введения какого-нибудь мнения, находятся еще в состоянии войны, и их состояние есть не мир, а приостановление военных действий из боязни друг друга. И они живут как бы в состоянии непрерывного приготовления к военным действиям. Вот почему в сферу компетенции суверена входит быть судьей или назначать всех судей мнений и учений, что необходимо в целях мира и предупреждения раздора и гражданской войны.
В-седьмых, к верховной власти относится вся власть предписывать правила, указывающие каждому человеку, какими благами он может пользоваться и какие действия он может предпринять, без того чтобы быть стесненным в этом отношении кем либо из своих сограждан. И это именно то, что люди называют собственностью.
Ибо до установления верховной власти (как уже было показано) все люди имели право на все, каковое право необходимо должно было вести к войне, и поэтому эта собственность, которая является необходимым средством к миру и установление которой зависит от установления верховной власти, является актом этой власти в целях установления общественного мира. Эти правила о собственности (или о моем и твоем) и о добре, зле, закономерном и незакономерном в человеческих действиях являются гражданскими законами, то есть особенными законами каждого отдельного государства, хотя термин гражданский закон приурочивается теперь к древним гражданским законам города Рима, законы которого в силу его главенства над большей частью тогдашнего мира были в этой части мира гражданским законом.
В-восьмых, интегральной частью верховной власти является судебная власть, то есть право разбирать и решать все споры, могущие возникнуть в отношении закона, как гражданского, так и естественного, или в отношении факта. Ибо до решения споров не может быть защиты подданного против обид со стороны другого. Без такого решения споров остаются пустыми звуками законы о моем и твоем, и за всяким человеком в силу его естественного и необходимого стремления к самосохранению остается право защищать себя своей собственной физической силой, то есть остается состояние войны, противоречащее той цели, для которой установлено каждое государство.
В-девятых, в компетенцию верховной власти входит право объявления войны и заключения мира с другими народами и государствами, то есть право судить о том, требуется ли то или другое в данный момент в интересах общего блага и какие силы должны быть для данной цели собраны, вооружены и оплачены, а также какая сумма должна быть собрана с подданных для покрытия расходов. В самом деле, гарантию защиты доставляют каждому народу его вооруженные силы, а сила армии состоит в объединении ее сил под единым командованием, каковое командование принадлежит поэтому суверену, ибо одно право командования над вооруженными силами без всякого другого установления делает того, кто обладает этим правом, сувереном. Вот почему, кто бы ни был генералом армии, лицо, обладающее верховной властью, является всегда генералиссимусом.
В-десятых, к правам верховной власти относится право выбора всех советников, министров, магистратов и чиновников, как гражданских, так и военных. Ибо так как мы видели, что целью учреждения верховной власти является осуществление общего мира и защиты, то отсюда следует, что суверен должен иметь власть использовать те средства, которые он сочтет наиболее подходящими для выполнения своей миссии.
В-одиннадцатых, суверену предоставлено право награждать богатством и почестями, а также наложить физические и денежные наказания, как и наказание бесчестием на всякого подданного в соответствии с изданным ранее сувереном законом. А если такого закона не было издано, то суверену предоставлено право награждать и наказывать соответственно тому, как он это сочтет разумным в целях поощрения людей к тому, чтобы служить государству, или удержания их от того, чтобы вредить ему.
И наконец, принимая во внимание, какую цену люди от природы склонны придавать самим себе, какого уважения они требуют от других и как мало они ценят других людей и что из всего этого непрерывно проистекают среди них состязание, борьба, раздоры, заговоры и, наконец, война, ведущая к их взаимному истреблению и к парализованию их силы сопротивления общему врагу, необходимо, чтобы существовали законы о почестях и установленная государством градация ценности людей, отказавших или способных оказать услугу государству, и чтобы тот или другой человек был облечен властью провести эти законы в жизнь. Номы уже показали, что верховная власть имеет не только право распоряжения милицией или вооруженными силами государства, но также и право суда во всех спорах. Поэтому суверену принадлежит также право раздавать почетные титулы и определять тот ранг, который каждый человек должен занимать, и те знаки уважения, которые подданные должны оказывать друг другу при публичных и частных встречах.
Таковы права, образующие сущность верховной власти и являющиеся признаками, по которым человек может определить того человека или то собрание людей, которые облечены верховной властью. Ибо эти права непередаваемы и неотделимы друг от друга. Право чеканить монету, распоряжаться имуществом и личностью несовершеннолетних наследников, право преимущественной покупки на базарах и все другие уставные прерогативы могут быть сувереном перенесены на кого-нибудь без всякого ущерба для его права защиты своих подданных. Если же суверен переносит на другого право распоряжения милицией, то он без всякой пользы удерживает за собой право судебной власти, так как он лишен силы привести законы в исполнение, а если он уступает кому-либо свое право взимать налоги, то пустым остается его право распоряжаться военными силами, или если он отказывается от права управлять учениями, то боязнь духов может толкнуть людей на восстание. Таким образом, какое бы из указанных прав мы ни рассмотрели, мы увидим, что при его отпадении удержание всех остальных прав не может произвести никакого эффекта в отношении сохранения мира и справедливости, для каковой цели все государства установлены. И это именно разделение имеется в виду, когда говорится, что государство, разделенное в самом себе, не может сохраниться, ибо без такого предварительного разделения никогда не может случиться, чтобы государство разделилось на две борющиеся между собой армии. Если большая часть населения Англии не разделяла бы раньше того мнения, что указанные права были разделены между королем, палатой лордов и палатой общин, народ не был бы никогда разделен и не дошло бы дело до гражданской войны, сначала из-за политических разногласий, а затем из-за разногласий по вопросу о свободе религии. Эта гражданская война послужила таким уроком для людей в отношении верховных прав, что теперь (в Англии) найдутся очень немногие, которые не видят, что эти права неразделимы между собой, и таковыми они будут признаны при ближайшем восстановлении мира и будут признаваться до тех пор, пока не будут забыты пережитые бедствия, но не дольше, разве лишь народная масса станет более просвещенной, чем она была до сих пор.
Так как эти права являются существенными и нераздельными, то отсюда необходимо следует, что, в какой бы форме какое-нибудь из этих прав ни было пожаловано сувереном кому-нибудь, если только при этом не было прямого отречения от верховной власти и тот, кому пожаловано это право, продолжает по-прежнему именовать жалующего сувереном, пожалованье недействительно, ибо если суверен пожаловал все, что он может, но мы возвращаем ему обратно его верховную власть, то все его права как нераздельные между собой и неотделимые от верховной власти восстанавливаются. Так как эта огромная сфера компетенции неделима внутри и неотделима от верховной власти, то мало обоснованным является мнение тех, которые говорят о суверенных королях, что хотя они singulis majores, то есть имеют большую власть, чем каждый из их подданных в отдельности, однако они universis minores, то есть имеют меньшую власть, чем все их подданные в совокупности. В самом деле, если они под «все в совокупности» не разумеют коллектива как единого лица, тогда «все в совокупности» означает то же самое, что «каждый в отдельности», и вся эта речь бессмысленна. Если же они под «все в совокупности» разумеют весь народный коллектив как единое лицо (носителем какового лица является суверен), тогда власть всех в совокупности тождественна с властью суверена, и таким образом приведенное выше утверждение опять-таки бессмысленно. Нелепость своего утверждения авторы его достаточно хорошо видят там, где верховная власть принадлежит народному собранию, но они не видят его там, где она принадлежит монарху, и однако верховная власть остается той же независимо от того, кому она принадлежит.
И как власть, так и честь суверена должны быть больше, чем любого из его подданных или всех его подданных. Ибо верховная власть является источником всех почестей. Достоинства лорда, герцога и принца суть создания его рук. И подобно тому, как в присутствии господина все слуги являются равными и лишенными всякого почета, такими же бывают и подданные в присутствии суверена. И хотя они представляются одни выше рангом, другие ниже, когда они находятся вне его поля зрения, однако в его присутствии они не больше, чем звезды в присутствии солнца.
Могут однако возразить здесь, что состояние подданных, вынужденных безропотно подчиняться прихотям и порочным страстям того или тех, которые имеют в своих руках такую неограниченную власть, является чрезвычайно жалким. И обыкновенно бывает так, что те, которые живут под властью монархии, считают свое жалкое положение результатом монархического образа правления, а те, которые живут под властью демократии или другого верховного собрания, приписывают все неудобства этой форме государства, между тем как власть, если она только достаточно совершенна, чтобы быть в состоянии оказывать защиту подданным, одинакова во всех ее формах. Те, которые жалуются на указанные стеснения, не принимают во внимание, что положение человека никогда не может быть без того или другого неудобства и что величайшие стеснения, которые может иногда испытывать народ при той или иной форме правления, едва чувствительны по сравнению с теми бедствиями и ужасающими несчастьями, которые являются спутниками гражданской войны, или с тем разнузданным состоянием безвластия, когда люди не подчиняются законам и не признают над собой никакой принудительной власти, удерживающей их от грабежа и актов мести. Эти люди не принимают во внимание также и того, что величайшие притеснения, испытываемые подданными со стороны верховных правителей, проистекают не из того, что эти правители ожидают для себя удовольствия или выгоды от разорения или ослабления их подданных, чья сила составляет их собственную силу и славу, а обусловлены тем, что упорная скаредность самих подданных, неохотно идущих на материальные жертвы для своей собственной защиты, ставит их правителей перед необходимостью извлечь из них все, что можно, в мирное время, с тем чтобы иметь средства в случае крайней или внезапной необходимости для организации сопротивления или победы над своими врагами. Ибо все люди от природы снабжены теми замечательными увеличительными стеклами (каковыми являются их страсти и самолюбие), сквозь которые каждый маленький платеж представляется им великой обидой, и лишены тех зрительных труб (именно морали и государствоведения), чтобы видеть издали те бедствия, которые дамокловым мечом висят над ними и которые не могут быть избегнуты без таких платежей.
Глава XIX
О различных видах государств, основанных на установлении, и о преемственности верховной власти
Различие государств заключается в различии суверена или лица, являющегося представителем всех и каждого по отношению к какой-нибудь массе людей. А так как верховная власть может принадлежать или одному человеку, или собранию большого числа людей, а в этом собрании могут иметь право участвовать или всякий, или лишь определенные, отличные от остальных люди, то отсюда ясно, что могут быть лишь три вида государства. Ибо представителем должен быть или один человек, или большее число людей, а если представителем является большее число людей, то это или собрание всех, или собрание лишь части. Если представителем является один человек, тогда государство представляет собой монархию, если собрание всех, кто хочет участвовать, тогда это демократия или народоправство, а если верховная власть принадлежит собранию лишь части граждан, тогда такое государство называется аристократией. Других видов государства не может быть, ибо или один, или многие, или все имеют верховную власть (неделимость которой мы показали) целиком.
В книгах по истории и политике мы находим и другие названия для форм правления, как тирания и олигархия. Однако это не названия других форм правления, а выражения порицания перечисленным нам формам. В самом деле, те, которые потерпели обиду в монархии, именуют ее тиранией, а те, которые недовольным аристократией, называют ее олигархией. Точно таким же образом те, которым причинено было огорчение в демократии, называют эту форму правления анархией (что означает отсутствие правительства), и тем не менее никто, как я полагаю, не будет считать безвластие какой-нибудь новой формой правления. По тем же основаниям не следует думать, что правление имеет одну форму, когда оно нам нравится, и другую, когда оно нам не нравится или когда мы подвергаемся притеснениям со стороны правителей.
Очевидно, что люди, пользующиеся абсолютной свободой, могут, если это им нравится, дать полномочие на представительство каждого из них как одному человеку, так и какому-нибудь собранию людей, и, следовательно, если они считают это полезным, они могут отдать себя в подданство монарху так же абсолютно, как любому другому представителю. Поэтому там, где уже учреждена верховная власть, может быть учреждено другое представительство того же народа лишь для определенных частных целей, ограниченных сувереном. В противном случае это означало бы, что учреждены два суверена и что лицо каждого человека представлено двумя уполномоченными, что в случае их несогласия между собой по необходимости привело бы к разделению той власти, которая (если люди хотят жить в мире) должна быть неделимой, и тем довело бы людскую толпу до состояния войны, противоположного той цели, во имя которой установлена всякая верховная власть. И подобно тому, как было бы нелепо думать, что если облеченное верховной властью собрание приглашает подвластный ему народ посылать депутатов с правом делать представления и высказывать пожелания, оно тем самым считает абсолютным представительством народа этих депутатов, а не себя, точно так же было бы нелепо думать так и в отношении монархии. И я не понимаю, как такая очевидная истина так мало была принята во внимание в недавнее время, что в монархии человек, обладавший верховной властью, потомок рода, являющегося носителем верховной власти на протяжении шестисот лет, человек, которого одного называли сувереном, который каждым из своих подданных титуловался величеством и беспрекословно признавался королем, что этот человек, тем не менее, никогда не признавался его подданными своим представителем, и это имя с общего одобрения стало считаться титулом тех людей, которые по его приказанию были посланы народом, чтобы изложить суверену народные пожелания и дать ему (если он разрешит) от имени народа совет. Это обстоятельство может послужить лицам, являющимся верными и абсолютными представителями народа, напоминанием о том, что им необходимо просветить людей насчет природы указанного звания и что они должны остерегаться допускать какое-либо другое общее представительство по какому бы то ни было поводу, если они хотят выполнить возложенные на них задачи.
Различие между этими тремя родами государства состоит не в различии власти, а в различии пригодности и способности каждого из них к осуществлению той цели, для которой они установлены, а именно к водворению мира и обеспечению безопасности народа. И, сопоставляя в этом отношении монархию с другими двумя родами правления, мы можем заметить следующее.
Во-первых, всякий являющийся носителем лица народа или членом собрания, являющегося таким носителем, является одновременно носителем своего собственного естественного лица. Поэтому, как бы такой человек в своем качестве политического лица усердно ни заботился об обеспечении общего блага, он, однако, более или менее усердно заботится также об обеспечении своего личного блага, блага своей семьи, своих родственников и друзей, и, если общие интересы сталкиваются враждебно сего частными интересами, он в большинстве случаев отдает предпочтение частным интересам, ибо страсти людей обычно бывают сильнее их разума. Общие интересы поэтому больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными интересами. И именно такое совпадение мы имеем в монархии. Богатство, сила и слава монарха обусловлены богатством, силой и славой его подданных. Ибо никакой король не может быть ни богат, ни славен, а также уверенным в прочности своего царствования, если его подданные бедны, презираемы или слишком слабы вследствие бедности или междоусобий, чтобы выдержать войну против своих врагов. В демократии же или аристократии общественное благоденствие не в такой мере содействует благополучию коррумпированного или честолюбивого государственного деятеля, в какой этому благополучию часто способствуют изменнический совет, предательство или гражданская война.
Во-вторых, монарх может получить совет от кого ему угодно, когда и где ему угодно, и, следовательно, он может выслушать мнение людей, сведущих в вопросе, подлежащем его обсуждению, каковы бы ни были их ранг и звание, и настолько заблаговременно в отношении момента действия и так секретно, как он сочтет это нужным. Когда все верховное собрание нуждается в совете, то туда допускаются только те, кто имеет на это право с самого начала, а это в большинстве случаев бывают люди, сведущие больше в вопросах, касающихся приобретения богатства, чем в вопросах, касающихся приобретения знания. Кроме того, члены таких собраний дают свои советы в длинных речах, могущих побудить и действительно побуждающих людей к действиям, но не могущих руководить действиями этих людей. Ибо пламя страстей никогда не просветляет разума, а, наоборот, помрачает его, да и никогда и нигде не может остаться в тайне совет, принятый в собрании вследствие многочисленности состава последнего.
В-третьих, решения, принятые монархом, подвержены непостоянству лишь в той мере, в какой это присуще человеческой природе, решения же собрания могут подвергаться изменениям не только вследствие этой особенности человеческой природы, но и благодаря многочисленности состава собрания. Ибо стоит немногим членам, считающим необходимым держаться раз принятого решения, не явиться в собрание (что может случиться в силу беззаботности, нерадения или вследствие случайных препятствий) или вовремя явиться некоторым, держащимся противоположного взгляда, и все, что вчера было решено, будет сегодня аннулировано.
В-четвертых, монарх не может расходиться во мнениях с самим собой по мотивам зависти или своекорыстия, собрание же может, причем так резко, что дело может дойти до гражданской войны.
В-пятых, в монархии имеется следующее неудобство, а именно что какой-нибудь подданный может быть властью одного человека лишен всего своего имущества в целях обогащения какого-нибудь фаворита или льстеца. И я признаю, что это большое и неизбежное неудобство. Однако то же самое может случиться и там, где верховная власть принадлежит собранию, ибо власть такого собрания одинакова с властью монархов; члены такого собрания могут поддаться дурным советам и быть введенными в соблазн ораторами, как монарх льстецами, и взаимной лестью они взаимно могут поощрять друг у друга корыстолюбие и честолюбие. И между тем как монархи имеют немногих фаворитов, а покровительствовать они могут своим собственным родственникам, фавориты собрания многочисленны, а родственники всех его членов значительно многочисленнее, чем родственники любого монарха. Кроме того, нет такого фаворита монарха, который не был бы в одинаковой мере способен помогать своим друзьям, как вредить своим врагам, ораторы же, то есть фавориты верховного собрания, хотя и имеют большую власть вредить, обладают очень малой властью спасать, ибо (такова природа человека) для того, чтобы добиться чьего-либо обвинения, не требуется обладать таким красноречием, как для того, чтобы добиться его оправдания, и осуждение нам всегда представляется более сообразным с принципом правосудия, чем оправдание. В-шестых, одним из неудобств монархии является то обстоятельство, что верховная власть в ней может достаться по наследству несовершеннолетнему или такому, который не может различать между добром и злом, и неудобство состоит в том, что применение его власти должно быть передано в руки человека или собрания людей, которые в качестве кураторов или регентов должны управлять по его праву и его именем. Однако сказать, что предоставление нрава на осуществление верховной власти одному человеку или собранию людей есть неудобство, значит сказать, что всякое правительство есть большее неудобство, чем хаос и гражданская война. Единственная опасность поэтому, которая в данном случае грозит, это борьба тех, которые являются конкурентами на такую почетную и выгодную должность. Но чтобы убедиться в том, что это неудобство возникает не от формы правления, называемой нами монархией, надо принять во внимание, что предшествовавший монарх должен был уже наметить опекуна своего несовершеннолетнего преемника или ясно выраженными словами путем завещания, или молчаливой санкцией принятого в таких случаях обычая. Поэтому это неудобство (если таковое возникнет) должно быть приписано не монархии, а честолюбию и несправедливости подданных, но честолюбие и несправедливость в одинаковой мере присущи подданным во всех родах правления, где народ недостаточно просвещен насчет своих обязанностей и насчет прав верховной власти. Если же предположить, что предшествовавший монарх не оставил никаких указаний насчет опекунства, то ясное правило на этот счет дано естественным законом, а именно что опекунство должно быть предоставлено тому, кто, естественно, наиболее заинтересован в сохранении власти несовершеннолетнего и не может извлечь никакой выгоды для себя из его смерти или уменьшения его власти. В самом деле, так как мы видим, что всякий человек по природе ищет своей выгоды и своего повышения, то передавать несовершеннолетнего во власть людей, которые могут возвыситься благодаря его гибели или уменьшению его прав, было бы не опекунством, а предательством. Таким образом предусмотрены всякие меры для предупреждения добросовестных споров о том, кому править государством в случае восшествия на престол малолетнего наследника, и если в этом случае все же возникают споры, нарушающие общественный мир, то это должно быть приписано не монархической форме правления, а честолюбию подданных и незнанию своих обязанностей. С другой стороны, всякое большое государство, в котором верховная власть принадлежит обширному собранию, находится в отношении решения вопросов о войне и мире и в отношении составления законов в таком же положении, как если бы верховная власть находилась в руках малолетнего. Ибо подобно тому, как малолетний лишен способности самостоятельного суждения, чтобы отклонить данный ему совет, и он поэтому вынужден принять совет тех или того, попечению которых он поручен, точно так же и собрание лишено свободы отклонить совет, данный его большинством независимо от того, является ли этот совет хорошим или дурным. И подобно тому, как малолетний король нуждается в опекуне или покровителе, хранителе его личности и его власти, точно так же и верховное собрание (в больших государствах) в момент больших опасностей и смут нуждается в custodes libertatis, то есть в диктаторе или хранителе его власти. Последние являются, собственно говоря, временными монархами, так как верховное собрание передает им на срок всю полноту своей власти, причем чаще бывали случаи узурпации власти (по истечении установленного срока) со стороны таких диктаторов, чем случаи узурпации власти малолетних королей со стороны хранителей престола, регентов или каких-либо других опекунов.
Хотя имеются, как я показал, лишь три рода верховной власти, а именно монархия, где носителем верховной власти является один человек, или демократия, где носителем верховной власти является общее собрание всех граждан, или аристократия, где верховная власть принадлежит собранию определенных лиц, назначенных или, так или иначе, выделенных из остальной массы народа, однако тот, кто будет обозревать отдельные государства, бывшие и существующие ныне на свете, нелегко, может быть, сумеет свести соответствующие формы правления к нашим трем, и он будет склонен думать, что имеются и другие формы, представляющие собой смесь из этих трех, например, выборные королевства, в которых верховная власть дана королям лишь на определенный срок, или королевства, в которых короли имеют ограниченную власть, каковые формы правления большинством писателей, тем не менее именуются монархиями. Точно так же, если какое-нибудь народное или аристократическое государство, покорив какую-нибудь неприятельскую страну, управляет ею при посредстве президента, наместника или какого-нибудь другого должностного лица, то на первый взгляд может, пожалуй, казаться, будто такая страна управляется демократически или аристократически. Однако это не так. Ибо выборные короли являются не суверенами, а министрами суверена, точно так же не суверенами, а лишь министрами тех, кто обладает верховной властью, являются и короли с ограниченной властью. А провинции, находящиеся в подчинении демократических или аристократических государств, управляются не демократически или аристократически, а монархически.
И в отношении выборного короля надо, во-первых, заметить следующее. Если такой король, власть которого ограничена его жизнью, как это имеет место в настоящее время во многих местах христианского мира, или ограничена несколькими годами или месяцами, как власть диктатора у римлян, – если такой король имеет право назначить себе преемника, то он уже не выборный король, а наследственный. Если же он не имеет власти выбрать себе наследника, тогда имеются какой-нибудь другой человек или известное собрание, которые после смерти выборного короля могут выбрать другого, иначе же государство умирает и распадается со смертью этого короля и возвращается к состоянию войны. Если известно, следовательно, кто именно имеет власть назначить нового суверена после смерти выборного короля, то известно также, кто именно являлся раньше носителем верховной власти, ибо никто не имеет права отдавать то, чем он не может по праву владеть и чего он не может правомерно удержать за собой, если сочтет это для себя целесообразным. Если же не имеется никого, кто бы мог назначить преемника после смерти первого выборного короля, тогда последний имеет право, больше того, обязывается естественным законом назначить себе преемника, с тем чтобы удержать тех, кто вверил ему власть, от возвращения к бедственному состоянию гражданской войны. И следовательно, такой король после избрания стал абсолютным сувереном.
Во-вторых, король, власть которого ограничена, не выше того или тех, кто имеет право ограничить эту власть, а тот, кто не выше кого-либо другого, не является верховным, то есть не является сувереном. Верховная власть поэтому всегда была в руках того собрания, которое имело право ограничить короля, и, следовательно, формой правления в данном случае является не монархия, а демократия или аристократия, как это мы видим в древней Спарте, где царям принадлежало право верховного командования армией, но верховная власть принадлежала эфорам.
В-третьих, к тому же, когда римский народ управлял Иудеей (к примеру) при посредстве наместника, Иудея, однако, не была в силу этого демократией, ибо иудеи не управлялись собранием, в котором кто-нибудь из них имел право участвовать, и Иудея не была и аристократией, ибо иудеи не управлялись собранием, куда кто-нибудь из них мог войти путем избрания. Иудея управлялась лицом, которое хотя в отношении народа Рима было народным собранием или демократией, однако в отношении народа Иудеи, не имевшего права участвовать в правлении, было монархом. Ибо хотя там, где народ управляется собранием, избранным им самим из его же среды, образ правления называется демократией или аристократией, однако там, где народ управляется собранием, которого народ не избирал, мы имеем монархию – не монархическую власть одного человека над другим, а монархическую власть одного народа над другим народом.
Так как материал всех этих форм правления смертен, ибо не только монархи умирают, но вымирают также целые собрания, то в целях сохранения мира среди людей необходимо, чтобы подобно тому, как были принять меры к созданию искусственного человека, были приняты также меры к созданию искусственной вечности жизни, без которой люди, управляемые собранием, возвращались бы к состоянию войны по истечении каждого человеческого века, а люди, управляемые одним человеком, – немедленно со смертью правителя. Эта искусственная вечность есть то, что люди называют правом на следования.
Нет такой совершенной формы правления, при которой право определения порядка наследования не принадлежало бы царствующему суверену. Ибо если это право принадлежит какому-нибудь частному человеку или частному собранию, то оно принадлежит подданному и может быть в любой момент присвоено сувереном, когда он этого пожелает. Следовательно, указанное право в данном случае принадлежит суверену. Если же право определения наследника предоставлено не частному человеку, а новым выборам, то это есть распад государства, и указанное право будет принадлежать тому, кто присвоит себе его силой, что противоречит намерению первых основателей государства, желавших создать этим не временную, а вечную гарантию безопасности. В демократии все собрание не может умереть, поскольку не вымерла управляемая им людская масса. Вот почему при этой форме правления вопросы о праве наследования не могут иметь места.
Когда в аристократии умирает кто-нибудь из членов верховного собрания, то право избрания другого на место умершего принадлежит собранию как суверену, которому принадлежит право избрания своих советников к помощников. Ибо то, что делает представитель в качестве уполномоченного, делает каждый из его подданных как доверитель. И хотя верховное собрание может предоставить другим право избрания новых людей для пополнения его корпуса, однако эти выборы совершаются на основании полномочий, данных верховным собранием, и последним это право может быть взято назад (если бы народ этого потребовал).
Величайшая трудность в отношении права наследования имеется в монархии. И эта трудность проистекает из того, что на первый взгляд представляется неясным, кто имеет право определить наследника, и часто также представляется неясным, кто именно назначен наследником. Ибо в обоих этих случаях требуется способность к очень точному умозаключению, которой не всякий обладает. Что касается вопроса, кто должен определить наследника монарха, обладающего верховной властью, то есть кто должен определить право наследования (ибо выборные короли и князья имеют верховную власть не в собственность, а лишь в пользование), мы должны сообразить, что право распоряжения в отношении наследования принадлежит или царствующему суверену, или же это право опять-таки принадлежит распавшейся на свои составные элементы народной массе. Ибо смерть того, кто имеет верховную власть в собственности, оставляет народную массу без всякого суверена, то есть без всякого представителя, в лице которого эта масса была объединена, с тем чтобы быть вообще способной совершить какое-либо действие. Вот почему эта масса неспособна избирать нового монарха, ибо каждый человек имеет в этом случае право отдать себя в подданство тому, кого он считает наиболее способным защищать его или, если он может, защищать себя своим собственным мечом. Но это есть возвращение к хаосу и состоянию войны всех против всех, что противоречит той цели, для которой монархия была впервые установлена. Отсюда очевидно, что при установлении монархии право распоряжения насчет престолонаследия всегда предоставлялось усмотрению и воле царствующего монарха.
А что касается вопроса (могущего иногда возникнуть), кого именно царствующий монарх назначил своим преемником и наследником своей власти, то это решается устным волеизъявлением и завещанием монарха или каким-нибудь другим молчаливым знаком сего стороны, достаточным для выявления его воли.
Устное волеизъявление или завещание имеет место тогда, когда монарх при жизни объявил свою волю viva voce (устно) или письменно, как, например, первые римские императоры объявляли, кто должен быть их наследником. Ибо слово наследник само по себе вовсе не подразумевает детей или ближайших родственников человека, а всякого, в отношении кого человек каким-либо путем объявляет, что он желал бы его иметь наследником своего состояния. Если поэтому монарх недвусмысленно устно или письменно заявляет, что такой-то человек должен быть его наследником, то этот человек со смертью предшественника немедленно вступает в права монарха.
Там же, где не имеется ни устного волеизъявления, ни завещания, надо следовать другим естественным знакам воли, одним из которых является обычай. И поэтому там, где существует обычай, что ближайший из родственников безусловно вступает в права наследования, ближайший из родственников имеет право на наследование престола, ибо, если воля предшествовавшего суверена была бы не такова, он легко мог бы заявить об этом при жизни. Точно так же там, где господствует обычай, что в права наследования вступает ближайший из мужских родственников, там право на престолонаследие принадлежит на том же основании ближайшему из мужских родственников. Точно так же пришлось бы следовать обычаю, если бы он давал преимущество женщинам. Ибо раз человек может своим словом заставить отступить от какого-нибудь обычая и он этого слова не произносит, то это является естественным признаком его воли к соблюдению этого обычая.
Там же, где нет ни завещания, ни соответствующего обычая, следует подразумевать: во-первых, что воля монарха такова, чтобы образ правления остался монархическим, ибо он эту форму одобрил своим собственным правлением; во-вторых, чтобы его собственному потомству мужского или женского рода было отдано предпочтение перед всеми другими, ибо надо полагать, что люди от природы более склонны выдвигать своих собственных детей, чем детей других людей, а из своих собственных детей они более склонны выдвигать мужчин, чем женщин, ибо мужчины естественно более приспособлены, чем женщины, к деятельности, сопряженной с трудом и опасностью; в-третьих, в случае отсутствия своего потомства монарх склонен отдать предпочтение брату перед чужим и более близкому по крови перед более дальним, ибо всегда предполагается, что более близкий из родственников более близок сердцу, и очевидно, что наибольшую славу человек всегда приобретает путем отражения от величия его ближайших родственников.
Могут, однако, возразить, что право монарха распоряжаться престолонаследием путем договора или завещания может повлечь за собой большое зло, ибо монарх может продать или подарить свое право на правление иностранцу. А так как люди, не привыкшие жить под одним правительством и не говорящие на одном языке, обыкновенно пренебрежительно относятся друг к другу, то указанное право монарха может привести к притеснению его подданных, что является, несомненно, большим злом.
Однако такое зло не необходимо связано с правлением иностранца, а является следствием неумелости правителей, не знающих истинных правил политики. Вот почему римляне, подчинившие своей власти много народов, обыкновенно устраняли это зло, поскольку они считали это необходимым для того, чтобы сделать свое правление наиболее терпимым для покоренных народов. В этих целях они иногда давали целым народам, а иногда знатным людям каждого покоренного народа не только права, но и звание римлян, и многих из этих знатных людей они назначали в сенат и на другие высокие должности даже в самом Риме. Такова была также цель нашего наиболее мудрого короля, короля Якова, когда он стремился к объединению своих двух королевств – Англии и Шотландии. Если эта цель была бы им достигнута, то этим, по всей вероятности, была бы предотвращена гражданская война, опустошающая в настоящее время оба эти королевства. Нет поэтому никакого вреда для народа от права монарха распоряжаться по своему усмотрению престолонаследием, хотя благодаря ошибкам князей это право вело иногда к неудобствам. В пользу законности этого положения говорит еще и тот аргумент, что всякое неудобство, которое может возникнуть от передачи королевства иностранцу, может также возникнуть от браков с иностранцами, так как на последних может перейти в этом случае право наследования. Однако такие браки считаются всеми людьми чем-то законным.
Глава XX
Об отеческой и деспотической власти
Государство, основанное на приобретении, есть такое государство, в котором верховная власть приобретена силой. А верховная власть приобретена силой, когда люди, каждый в отдельности или многие вместе большинством голосов, из боязни смерти или неволи принимают на свою ответственность все действия того человека или собрания, во власти которого находятся их жизнь и свобода.
И эта форма господства или суверенитета отличается от суверенитета, основанного на установлении, лишь тем, что люди, которые выбирают своего суверена, делают это из боязни друг друга, а не из страха перед тем, кого они облекают верховной властью, и данном же случае они отдают себя в подданство тому, кого они боятся. В обоих случаях побудительным мотивом является страх, что следует заметить тем, кто считает недействительными всякие договоры, заключенные из страха смерти или насилия. Если это мнение было бы верно, то никто ни в каком государстве не был бы обязан к повиновению. Верно то, что в государствах, однажды установленных или приобретенных, обещания, данные под влиянием страха смерти или насилия, не являются договорами и не имеют никакой обязательной силы, если то, что обещано, противоречит законам; но такие обещания лишены обязательной силы не потому, что они даны под влиянием страха, а потому, что тот, кто обещает, не имеет права на то, что он обещает. Точно так же, если обещающий может на законном основании выполнить свое обещание и не делает этого, то его освобождает от этой обязанности не недействительность договора, а решение суверена. Во всех же других случаях всякий, кто на законном основании обещает что-либо, совершает беззаконие, если он нарушает свое обещание. Но если суверен, являющийся уполномоченным, освобождает обещающего от его обязательства, тогда последний освобожден тем, кто исторг это обещание, как доверителем этого освобождения.
Однако права и последствия верховной власти в обоих случаях одинаковы. Власть суверена, приобретшего верховную власть силой, не может быть без его согласия перенесена на другого, такой суверен не может быть лишен власти, он не может быть обвинен кем-либо из своих подданных в несправедливости, он не может быть наказан своими подданными. Он является судьей того, что необходимо для поддержания мира; он решает вопрос об учениях. Он является единственным законодателем и верховным судьей при всех спорах, он определяет время и повод для объявления войны и заключения мира; ему принадлежит право выбирать магистратов, советников, полководцев и всех других чиновников и агентов исполнения, а также устанавливать награды, наказания, почести и ранги. Основанием для этих прав и их последствий служат те же соображения, которые мы приводили в предыдущей главе в пользу аналогичных прав и последствий верховной власти, основанной на установлении.
Власть может быть приобретена двояким путем – путем рождения и путем завоевания. Право на власть на основе рождения есть то, которое родитель имеет над своими детьми, и такая власть называется отеческой. Но это право не производится от факта рождения в том смысле, будто бы родитель имеет власть над своими детьми на том основании, что он родил их, а производится оно из согласия детей, ясно выраженного или тем или иным путем достаточно выявленного. Ибо что касается рождения, то Бог назначил мужчине помощника, и всегда имеются двое, одинаково являющиеся родителями. Если власть над детьми, следовательно, обусловилась бы актом рождения, то она должна была бы принадлежать обоим в одинаковой степени, и дети должны были бы быть подчинены в равной мере обоим, что невозможно, ибо никто не может повиноваться двум господам. А если некоторые приписывали это право одному лишь мужчине как наиболее превосходному полу, то они в этом ошибались. Ибо не всегда имеется такая разница в силе и благоразумии между мужчиной и женщиной, чтобы это право могло быть установлено без войны. В государствах этот спор решается гражданским законом, и в большинстве случаев (если не всегда) это решение бывает в пользу отца, так как большая часть государств была учреждена отцами, а не матерями семейств. Однако сейчас речь идет о голом естественном состоянии, где не имеется ни законов о браке, ни законов, касающихся воспитания детей, а имеются лишь естественные законы и естественная склонность полов друг к другу и к детям. В этом голом естественном состоянии родители или регулируют между собой вопрос о власти над детьми договором, или совсем не регулируют. Если они заключают на этот счет договор, то право достается тому, кто указан в договоре. Мы знаем из истории, что амазонки заключали с мужчинами соседних стран, к содействию которых они прибегали в целях производства потомства, договор, согласно которому мужское потомство должно было быть отправлено к отцам, а женское – оставлено при матерях. Таким образом власть над женским потомством принадлежала у них матерям.
При отсутствии договора власть над детьми должна принадлежать матерям. В самом деле, в голом естественном состоянии, где не имеется законов о браке, нельзя знать, кто является отцом, если нет соответствующего заявления матери; и поэтому право над детьми зависит от ее воли и, следовательно, является ее правом. Мало того, так как мы видим, что ребенок в первое время находится во власти матери, так что она может или кормить его, или подкинуть, то, если она его кормит, он обязан своей жизнью матери и поэтому обязан ей повиновением больше, чем кому-либо другому, и, следовательно, ей принадлежит власть над ним. Если же мать подкидывает своего ребенка, а другой его находит и кормит, то власть принадлежит тому, кто его кормит, ибо ребенок обязан повиноваться тому, кто сохранил ему жизнь. В самом деле, так как сохранение жизни является той целью, ради которой один человек становится подданным другого, то предполагается, что всякий человек обещает повиновение тому, в чьей власти спасти или погубить его.
Если мать является подданной отца, ребенок находится во власти отца, а если отец является подданным матери (как это бывает, когда королева выходит замуж за кого-нибудь из своих подданных), то ребенок является подданным матери, ибо и отец также является ее подданным.
Если мужчина и женщина, являющиеся монархами двух разных королевств, имеют общего ребенка и определяют договором, кто должен иметь власть над ним, то право приобретается согласно договору. При отсутствии же такого договора вопрос этот решается местожительством ребенка, ибо суверен каждой страны имеет власть над всеми теми, кто в этой стране живет.
Тот, кто имеет власть над детьми, имеет власть также над детьми этих детей и над детьми детей этих детей. Ибо тот, кто имеет власть над личностью человека, имеет власть над всем, что этот человек имеет, без чего власть была бы пустым титулом без всякого реального значения.
Право наследования отеческой власти регулируется теми же правилами, что и право наследования монархической власти. А об этих правилах я уже достаточно говорил в предыдущей главе.
Власть, приобретенная завоеванием или победой на войне, есть та, которую некоторые писатели называют деспотической, от слова δεσπότης, что означает господин, и это есть власть господина над его слугой. А эта власть в том случае приобретена победителем, когда побежденный, во избежание грозящего смертельного удара, ясно выраженными словами или какими-нибудь другими знаками, достаточными для выявления его воли, дает свое согласие на то, чтобы в течение всего времени, пока ему будут сохранены жизнь и физическая свобода, победитель делал из этой жизни и свободы употребление, какое ему вздумается. И лишь по заключении такого соглашения, но не раньше, побежденный становится слугой. В самом деле, под словом слуга (я предоставляю грамматикам спорить о том, является ли слово servus (слуга) производным от глагола servire, что означает служить, или от слова servare, что означает сохранять, спасать и иметь наблюдение) подразумевается не пленник, который содержится в тюрьме или держится в оковах до тех пор, пока его собственник, взявший его в плен или купивший его у того, который взял его в плен, не решит, что с ним делать, ибо такие люди (называемые обыкновенно рабами) не имеют никаких обязательств и могут с полным правом разбить свои цепи или тюрьму и убить или увести в плен своего господина, а подразумевается пленник, которому оставлена физическая свобода, после того как он дал обещание не убежать и не совершать насилия над господином, каковому обещанию последний поверил.
Право властвовать над побежденным дает поэтому не победа, а собственное соглашение побежденного, и обязательство последнего обусловлено не тем, что он побежден, то есть побит, взят в плен или обращен в бегство, а тем, что он приходит и подчиняется победителю. Точно так же то обстоятельство, что враг сдается, не обязывает победителя (если он не дал обещания сохранить ему жизнь) пощадить его за то, что он отдался на его благоусмотрение, ибо последнее обязывает победителя только до тех пор, пока он сам считает это нужным. А то, что люди делают, когда они просят пощады, есть изъявление покорности и предложение заплатить за сохранение жизни выкупом или службой, с тем чтобы избегнуть в данный момент ярости победителя. Поэтому тот, кто получил пощаду, не получил этим обещания сохранить ему жизнь, а лишь обещание отсрочить решение вопроса о его жизни и смерти до другого момента, ибо просящий пощады сдается не под условием сохранения ему жизни, а на благоусмотрение победителя. Сохранение жизни такому побежденному лишь тогда обеспечено и служба его лишь тогда обязательна, когда победитель предоставил ему физическую свободу. Ибо рабы, работающие в тюрьмах и в цепях, работают не в силу долга, а с тем, чтобы избегнуть жестокости надсмотрщиков.
Власть господина распространяется также на все то, что слуга имеет, и господин может пользоваться всем этим, когда ему только вздумается, то есть власть господина простирается на имущество слуги, на его труд, на его слуг и на его детей. Ибо слуга получает свою жизнь от господина в силу договора о повиновении, то есть договора, обязывающего слугу признать себя ответственным и считать себя доверителем всего того, что господин сделает. А если в случае его отказа в повиновении господин его убивает, или надевает на него оковы, или каким-нибудь иным способом наказывает его за его неповиновение, то слуга сам уполномочил господина на это и не может обвинить последнего в несправедливости.
Коротко говоря, права и последствия как отеческой, так и деспотической власти одинаковы с правами и последствиями суверенитета, основанного на установлении, и по тем же основаниям; эти основания были изложены в предыдущей главе. Таким образом, если бы человек, являющийся монархом различных стран, из которых одна подчинена ему в силу установления общим собранием народа, а другая – в силу завоевания, то есть в силу того, что каждый житель этой страны в отдельности, во избежание смерти или неволи, отдал себя ему в подданство, стал бы требовать от покоренного народа на основании титула завоевания больше, чем от другого народа, то это было бы актом, свидетельствующим о незнании прав суверенитета. Ибо суверен одинаково абсолютен по отношению к обоим этим народам, или иначе совсем нет в данном случае верховной власти, и каждый человек имеет право, если он может, защищать себя своим собственным мечом, то есть мы имеем в данном случае состояние войны.
Из всего этого ясно, что большая семья, не являющаяся частью какого-либо государства, представляет собой сама по себе в отношении прав суверенитета маленькую монархию независимо от того, состоит ли эта семья из человека и его детей, или из человека и его слуг, или из человека и его детей и слуг вместе. Во всех этих случаях сувереном является отец или господин. Однако семья не является в собственном смысле государством, разве только она обладает благодаря своей численности или другим благоприятным условиям такой силой, что она не может быть покорена без риска войны.
Ибо там, где численность семьи явно слишком слаба, чтобы она была способна защищать себя своими собственными объединенными силами, каждый из ее членов будет искать в минуту опасности на свой собственный страх и риск путей к спасению своей жизни, и он или обратится в бегство, или сдастся неприятелю, смотря по тому, что он сочтет для себя наиболее целесообразным. Точно таким же образом слишком небольшая армейская часть, застигнутая врасплох вражеской армией, предпочтет скорее бросить оружие и просить пощады или обратиться в бегство, чем погибнуть от меча. И этим достаточно сказано о правах верховной власти, как они представляются мне на основании размышления и дедукции из природы, нужд и намерений людей, образующих государства и подчиняющих себя монархам и собраниям, которых они облекают достаточной властью в целях своей защиты.
Рассмотрим теперь, чему учит нас в этом отношении Священное Писание. Сыны Израиля говорят Моисею: говори ты к нам, и мы будем слушать тебя, но пусть Бог не говорит к нам, дабы нам не умереть. Это выражение абсолютного повиновения Моисею. В отношении прав царей сам Бог устами Самуила говорит (Первая книга Самуила, 8, 11, 12 и дальше): вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его и возделывать поля его и жать его хлеб и делать ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составлял и масти, варил и кушанье и пекли хлебы. И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами.
Это есть характеристика абсолютной власти, резюмированная в последних словах: вы будете ему рабами. Далее, когда народ услышал, какую власть их царь должен иметь, он, однако, согласился на это и сказал так: мы будем, как прочие народы; будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны. Здесь подтверждено право, которое суверены имеют в отношении военной власти и всех видов юрисдикции, что составляет такую абсолютную власть, какую только один человек может перенести на другого. Опять-таки молитва царя Соломона, обращенная к Богу, гласила так: дай Твоему слуге разум, чтобы судить Твой народ и различать между добром и злом. В компетенцию суверена, таким образом, входит быть судьей и предписывать правила различения между добром и злом, каковые правила являются законами. Следовательно, суверену принадлежит законодательная власть. Царь Саул покушался на жизнь Давида, однако, когда последний получил возможность убить Саула и слуги его хотели это сделать, Давид запретил им, сказав: да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню. В отношении повиновения слуг апостол Павел говорит: слуги, повинуйтесь во всем вашим господам! И дети, повинуйтесь во всем вашим родителям! Этим предписывается безусловное повиновение тем, которые подчинены деспотической власти. Опять: на моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Тут опять мы имеем безусловное повиновение. И апостол Павел: напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям. Это повиновение опять безусловно. Наконец, наш Спаситель словами: воздайте кесарю кесарево – признает, что люди должны платить установленные царями подати; и сам их платил. Он подтверждает также, что достаточно царского слова, чтобы взять любую вещь у любого из подданных, если есть в этом надобность, и что сам царь является судьей того, что такая надобность имеется. Ибо сам Спаситель, как царь Иудейский, приказал своим ученикам взять ослицу и осленка и отвести их в Иерусалим, сказав: пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней, отвязав, приведите ко Мне. И если кто скажет вам что нибудь, отвечайте, что они надобны господину, и тот час пошлет их. Они не будут спрашивать, является ли его надобность достаточным титулом или является ли он судьей этой надобности, а подчинятся воле Господа. К этим цитатам можно присоединить еще место из Книги Бытия: вы будете, как боги, знающие добро и зло, и стих 11: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Ибо, так как познание добра и зла или юрисдикция по вопросам добра и зла была под именем плодов древа познания запрещена Адаму в качестве испытания его повиновения, дьявол, чтобы взнуздать честолюбие женщины, которой эти плоды уже казались красивыми, сказал ей, что, вкусив от этого дерева, они будут как боги, знающие добро и зло. И вот, когда они вслед за этим оба вкусили от этого дерева, они в самом деле присвоили себе функции Бога, а именно отправление правосудия по вопросам добра и зла, но не приобрели этим новой способности различать между ними. И если сказано, что, вкусивши от древа познания, они увидели свою наготу, то никто не интерпретировал этого места в том смысле, будто они до тех пор были слепы и не видели своей собственной колеи. Смысл этого места просто тот, что они при этом впервые сочли свою наготу (в каковой сотворить их была воля Божья) неприличной и, устыдившись, молчаливо порицали самого Бога. И вслед за этим Бог говорит: разве ты вкусил и т. д., желая этим сказать: разве ты, который обязан Мне повиновением, взял на себя быть судьей Моих повелений; и этим ясно обозначено (хотя аллегорически), что повеления тех, кто имеет право повелевать, не могут быть порицаемы или оспариваемы подчиненными.
Таким образом, как доводы разума, так и Священное Писание ясно говорят, на мой взгляд, за то, что верховная власть независимо от того, принадлежит ли она одному человеку или, как в народных и аристократических государствах, собранию людей, так обширна, как только это можно себе представить. И хотя люди могут воображать, что такая неограниченная власть должна вести ко многим дурным последствиям, однако последствия отсутствия таковой власти, а именно беспрестанная война всех против всех, значительно хуже. Состояние человека в этой жизни никогда не будет свободно от невзгод, но большие невзгоды, которые имеют место в каком-либо государстве, всегда проистекают от неповиновения подданных и от нарушения договоров, от которых государства берут свое начало. А если кто-либо, полагая, что верховная власть слишком обширна, пожелает ее ограничить, он должен будет подчиниться власти, могущей ее ограничить, то есть признать над собой большую власть.
Самое серьезное возражение против развитых нами взглядов делается с точки зрения практики, когда люди спрашивают: где и когда такая власть была признана подданными? Но этих людей можно, в свою очередь, спросить: когда или где было королевство в течение долгого времени свободно от мятежа и гражданской войны? У тех народов, государства которых существовали долго и были разрушены лишь внешней войной, подданные никогда не оспаривали прав верховной власти. Однако не следует придавать значение аргументу от практики, выдвигаемому людьми, которые не исследовали основательно и не взвесили точно причины и сущность государства и каждодневно страдают от бедствий, проистекающих от незнания этих причин и этой сущности. Ибо если бы даже во всех местах земного шара люди строили свои дома на песке, то из этого нельзя было бы сделать вывод, что так именно и следует строить. Искусство строительства и сохранения государств, подобно арифметике и геометрии, основано на известных правилах, а не на одной практике (как игра в теннис). А для нахождения этих правил бедным людям не хватает досуга, а тем, которые имеют досуг, не хватало до сих пор ни любознательности, ни метода.
Глава XXI
О свободе подданных
Свобода означает отсутствие сопротивления (я разумею под сопротивлением внешние препятствия для движения), и это понятие может быть применено к неразумным существам и неодушевленным предметам не в меньшей степени, чем к разумным существам. Ибо если что-либо так связано или окружено, что оно может двигаться лишь внутри определенного пространства, ограниченного сопротивлением какого-либо внешнего тела, то мы говорим, что это нечто не имеет свободы двигаться дальше. Подобным же образом о живых существах, пока они заперты или прикреплены к определенному месту стенами или цепями, а также о воде, которая сдерживается берегами или посудой и которая без этого препятствия разлилась бы по более широкому пространству, мы обыкновенно говорим, что они не имеют свободы двигаться так, как они бы двигались без этих внешних препятствий. Но если препятствие к движению кроется в самой конституции вещи, тогда мы обыкновенно не говорим, что эта вещь лишена свободы движения, а говорим, что она лишена способности движения, например, когда камень находится в покое или когда человек прикован болезнью к постели.
И согласно этому собственному и общепринятому смыслу слова мы называем свободным человеком того, кому ничто не препятствует делать то, что он желает, поскольку он по своим физическим и умственным способностям в состоянии это сделать. Но если слово свобода применяется к вещам, не являющимся телами, то это – злоупотребление словом, ибо то, что не обладает способностью движения, не подвержено препятствиям. И поэтому, когда мы (к примеру) говорим, что дорога свободна, то имеется в виду свобода не дороги, а тех людей, которые по ней беспрепятственно двигаются. А когда мы говорим «свободный дар», то мы понимаем под этим не свободу подарка, а свободу дарящего, не принужденного к этому дарению законами или договорами. Точно так же, когда мы свободно говорим, то это не свобода голоса или произношения, а свобода человека, которого никакой закон не обязывает говорить не так, как он говорит. Наконец, из употребления слов свобода воли нельзя делать никакого заключения о свободе воли, желания или склонности, а лишь о свободе человека, которая состоит в том, что человек не встречает препятствий к совершению того, к чему его влекут его воля, желание или склонность.
Страх и свобода совместимы. Так, например, если человек из страха, что корабль потонет, бросает свои вещи в море, то он это, тем не менее, делает вполне добровольно и может воздержаться от этого, если пожелает. Это следовательно акт свободного человека. Точно так же, если человек платит свои долги, как это иногда бывает, только из боязни тюрьмы, то и это является действием свободного человека, ибо ничто не препятствует этому человеку отказаться платить. И, как общее правило, все действия, которые люди совершают в государствах из страха перед законом, являются действиями, от которых те, которые их совершают, имеют свободу воздержаться.
Свобода совместима с необходимостью. Вода реки, например, имеет не только свободу, но и необходимость течь по руслу. Такое же совмещение мы имеем в действиях, которые люди совершают добровольно. В самом деле, так как добровольные действия проистекают из воли людей, то они проистекают из свободы, но так как всякий акт человеческой воли и всякое желание и склонность проистекают из какой-нибудь причины и эта причина – из какой-нибудь другой причины в непрерывной цепи (первое звено которой находится в руках Бога, являющегося первейшей из всех причин), то эти акты, желания и склонности проистекают из необходимости. Таким образом, всякому, кто мог бы видеть связь этих причин, была бы очевидна необходимость всех произвольных человеческих действий. И поэтому Бог, который видит все и располагает всем, видит также, что, когда человек делает то, что он хочет, его свобода сопровождается необходимостью делать не больше и не меньше того, чего желает Бог. Ибо хотя люди могут делать много вещей, которых Бог не велел делать и за которые Он поэтому не является ответственным, однако люди не могут иметь ни страстей, ни расположения к чему-либо, причиной которых не была бы воля Божья. И если воля Божья не обеспечила бы необходимости человеческой воли и, следовательно, и всего того, что от этой воли зависит, человеческая свобода противоречила бы и препятствовала бы всемогуществу и свободе Бога.
И этим довольно сказано (для нашей цели) о той естественной свободе, которая только одна понимается под свободой в собственном смысле.
Но подобно тому, как люди для достижения мира и обусловленного им самосохранения создали искусственного человека, которого мы называем государством, точно так же они сделали искусственные цепи, которые называются гражданскими законами и которые они сами взаимными договорами прикрепили одним концом к устам того человека или собрания, которым они дали верховную власть, а другим концом – к своим собственным ушам. Эти узы, слабые по своей собственной природе, могут, однако, быть сделаны так, чтобы они держались благодаря опасности, связанной с их разрывом, хотя и не благодаря трудности этого разрыва.
Лишь в отношении к этим узам я буду говорить теперь о свободе подданных. Действительно, так как мы видим, что нет такого государства в мире, в котором было бы установлено достаточно правил для регулирования всех действий и всех слов людей (ибо это невозможно), то отсюда с необходимостью следует, что во всякого рода действиях, о которых правила умалчивают, люди имеют свободу делать то, что их собственный разум подсказывает им как наиболее выгодное для них. Ибо если мы под свободой в собственном смысле будем понимать физическую свободу, то есть свободу от цепей и от тюрьмы, то было бы нелепо, чтобы люди (как они это делают) требовали такой свободы, которой они явным образом пользуются. С другой стороны, если мы под свободой стали бы понимать свободу от законов, то было бы не менее нелепо, чтобы люди требовали для себя (как они это делают) такой свободы, при которой все другие люди могли бы стать хозяевами их жизни. И однако, как это ни нелепо, они именно этого требуют, не зная, что законы бессильны защищать их, если меч в руках человека или людей не приходит им на помощь, заставляя людей исполнять их. Свобода подданных заключается поэтому лишь в тех вещах, которые суверен при регулировании действия людей обошел молчанием, как, например, свобода покупать и продавать и иным образом заключать договоры друг с другом, выбирать свое местопребывание, свою пищу, свой образ жизни, наставлять своих детей по своему собственному усмотрению и т. д.
Однако нас не следует так понимать, будто этой свободой упраздняется или ограничивается власть суверена над жизнью и смертью его подданных. Ведь было уже показано, что все, что бы верховный представитель ни сделал по отношению к подданному и под каким бы то ни было предлогом, не может считаться несправедливостью или беззаконием в собственном смысле, так как каждый подданный является виновником каждого акта, совершаемого сувереном. Суверен, таким образом, имеет право на все с тем лишь ограничением, что, являясь сам подданным Бога, он обязан в силу этого соблюдать естественные законы. Поэтому может случиться и часто случается в государствах, что подданный по повелению верховной власти предается смертной казни, и при этом ни подданный, ни суверен не совершают несправедливости по отношению друг к другу, как, например, когда Иеффай принес в жертву свою дочь. В этом и подобных случаях тот, кто так умирает, имел свободу совершить то деяние, за которое он, тем не менее, без всякой несправедливости предается смерти. Точно так же обстоит дело с суверенным князем, предающим смерти невинного подданного. Ибо, хотя такого рода деяние, как, например, убийство Урии Давидом, будучи против справедливости, идет вразрез с естественным законом, беззаконие в приведенном случае было, однако, совершено лишь по отношению к Богу, а не по отношению к Урии. Не по отношению к Урии, ибо право делать, что ему угодно, было дано царю Давиду самим Урием, и, однако, по отношению к Богу, ибо царь Давид был подданным Бога и естественным законом ему было запрещено совершать всякую несправедливость. Это различие явно подтвердил и сам Давид, когда он в своем покаянном обращении к Богу сказал: против Тебя одного я согрешил. Точно так же, когда афинский народ изгонял на 10 лет наиболее влиятельных граждан из государства, он не думал, что совершает какое-нибудь беззаконие, и афиняне никогда не спрашивали себя, какое преступление совершил изгоняемый, а лишь какую опасность представляет он для государства. Мало того, они постановляли изгнание, не зная сами чье, ибо каждый гражданин приносил на рыночную площадь свою устричную раковину с именем того, кого он считает нужным изгнать, не выставляя против него никакого определенного обвинения, и, таким образом, они иногда изгоняли какого нибудь Аристида за то, что он пользовался славой справедливого, а иногда грубого гаера, как Гибербола, за его шутки. И однако никто не скажет, что суверенный народ Афин не имел права изгонять их или что афинянин не имел свободы шутить или быть справедливым.
Та свобода, о которой часто и с таким уважением говорится в исторических и философских работах древних греков и римлян и в сочинениях и рассуждениях тех, кто позаимствовал у них все свои политические познания, не есть свобода частных людей, а свобода государств, идентичная с той, которой пользовался бы каждый человек в том случае, когда не было бы совершенно ни гражданских законов, ни государств. Ибо подобно тому, как среди людей, не признающих над собой никакой власти, существует непрерывная война каждого против своего соседа, не существует наследства, которое можно было бы передать сыну или ждать от отца, не существует собственности на движимое и недвижимое имущество и никакой гарантии безопасности, а имеется полная и абсолютная свобода каждого частного человека, точно так же среди независимых друг от друга государств каждое государство (не каждый человек) пользуется абсолютной свободой делать то, что оно считает (то есть что тот человек или собрание, которое его представляет, сочтет) наиболее соответствующим своему благу; в силу этого они и живут в состоянии непрерывной войны и постоянной готовности к бою, о чем говорят укрепленные границы и пушки, направленные против их соседей. Афиняне и римляне были свободны, то есть свободными государствами, это значит не то, что какие-нибудь частные люди пользовались там свободой оказывать сопротивление своим собственным представителям, а то, что их представители имели свободу оказывать сопротивление другим народам или завоевать их. На башнях города Лука начертано в наши дни большими буквами слово Libertas (свобода), однако никто не может отсюда заключать, что частный человек пользовался здесь большей свободой или иммунитетом от службы государству, чем в Константинополе. Свобода является одинаковой как в монархическом, так и в демократическом государстве.
Однако люди легко вводятся в заблуждение соблазнительным именем свободы и по недостатку способности различения принимают ошибочно за свое прирожденное и доставшееся им по наследству право то, что является лишь правом государства. А когда эта самая ошибка подкрепляется авторитетом тех, которые пользуются высокой репутацией за свои сочинения по этому вопросу, то не приходится удивляться тому, что это приводит к мятежу и к государственному перевороту. В наших западных частях мира мы привыкли заимствовать наши мнения относительно установления и прав государств у Аристотеля, Цицерона и других людей – греков и римлян, которые, живя в демократических государствах, не производили этих прав из принципов природы, а переносили их в свои книги из практики их собственных демократических государств подобно тому, как грамматики составляли правила языка на основании современной им практики или правила стихосложения на основании поэм Гомера и Виргилия. И так как афинян поучали (чтобы удержать их от стремления к изменению форм правления), что они свободные люди и что все, живущие в монархии, рабы, то Аристотель пишет в своей «Политике» (книга 6, гл. 2): демократия предполагает свободу, ибо считается общепринятым, что никто не бывает свободным при другом образе правления. И подобно тому, как Аристотель базировал свое учение о государстве на практике Афинской республики, точно так же Цицерон и другие писатели основывали свое учение на мнениях римлян, которым внушали ненависть к монархии сначала те, которые свергли своего суверена и поделили между собой верховную власть над Римом, а затем их преемники. И благодаря чтению греческих и латинских авторов люди с детства приобрели привычки благоприятствовать (под лживой маской свободы) мятежам и беспутному контролированию своих суверенов, а затем контролированию и этих контролеров, вследствие чего было пролито столько крови, что я считаю себя вправе утверждать, что ничто никогда не было куплено такой дорогой ценой, как изучение греческого и латинского языков западными странами.
Переходя теперь к частностям истинной свободы подданного, то есть к вопросу о том, в каких случаях подданный может, не совершая беззакония, ослушаться приказаний суверена, мы должны рассмотреть, от каких прав мы отказываемся, когда мы устанавливаем государство, или (что одно и то же) от какой свободы мы сами отрекаемся, принимая на свою ответственность все действия (без исключения) человека или собрания, которых мы делаем своими суверенами. Ибо в акте нашего подчинения заключаются одинаково как наше обязательство, так и наша свобода, и последние должны быть выведены из этого акта. Ибо так как все люди одинаково свободны от природы, то всякое обязательство человека может проистекать лишь из какого-нибудь его собственного акта. А так как основанием для этих выводов должны служить или определенные слова: я признаю своими все его действия, или намерение того, кто подчиняет себя его власти (а это намерение должно быть выведено из той цели, для которой он подчиняет себя), то обязательства и свобода подданного должны быть выведены или из этих слов (или других равнозначительных), или же из цели установления верховной власти, которая заключается в установлении внутреннего мира среди подданных и в их защите против общего врага.
Так как мы поэтому первым делом видим, что верховная власть, основанная на установлении, учреждена посредством договора каждого с каждым, а верховная власть, основанная на приобретении, посредством договора между побежденными и победителем и между ребенком и родителем, то отсюда очевидно, что каждый подданный имеет свободу в отношении всего того, право на что не может быть отчуждено договором. Я уже показал раньше в гл. XIV, что договоры, обязывающие человека не защищать своей собственной жизни, недействительны. Поэтому, если суверен приказывает человеку (хотя бы и по праву осужденному) убить, ранить или изувечить себя, или не оказывать сопротивления тому, кто на него покушается, или воздержаться от пищи или пользования воздухом, от употребления лекарства или от какой-либо другой вещи, без которой он не может жить, то такой человек свободен не повиноваться.
Если какой-нибудь человек допрашивается сувереном или кем-нибудь от имени последнего по поводу совершенного им преступления, то допрашиваемый (без обещания прощения) не обязан сознаться в этом, ибо (как я показал это в той же главе) никакой договор не может обязать человека обвинить себя.
Кроме того, признание подданным прав верховной власти содержится в следующих словах: я признаю своими или беру на свою ответственность все его действия. Этими своими словами подданный нисколько не ограничивает своей первоначальной свободы, ибо, разрешая суверену убить меня, я этим не обязываюсь убить самого себя по его приказанию. Одно дело сказать: убей меня или моего товарища, если тебе угодно, другое дело сказать: я намерен убить себя или моего товарища. Отсюда следует, что:
Никто не обязан на основании указанных слов убить себя или другого человека. И следовательно, обязанность, лежащая иногда на человеке, исполнять по приказанию суверена опасную или унизительную должность вытекает не из тех слов, которые составляют акт подчинения, а из намерения, которое должно быть дедуцировано из цели этого акта. Если поэтому наш отказ в повиновении в указанном случае подрывает ту цель, ради которой была установлена верховная власть, то мы не свободны отказать, в противном случае мы свободны.
На этом основании солдат, которому приказано сражаться против врага, может в некоторых случаях, не совершая беззакония, отказаться от исполнения этого приказа, хотя суверен имеет право казнить его за этот отказ. Это возможно, например, в том случае, когда указанный солдат ставит вместо себя другого достаточно сильного солдата, ибо в этом случае нет уклонения от службы государству. То же самое должно быть дозволено людям робким от природы, не только женщинам (от которых никто не ждет исполнения таких опасных обязанностей), но и мужчинам, обладающим бабьим мужеством. Когда армии сражаются, бывает, что одна сторона или обе стороны обращаются в бегство, однако если это делается не в целях предательства, а из трусости, то это считается не беззаконием, а позором. На том же основании уклонение от участия в сражении не есть беззаконие, а трусость. Однако тот, кто сам поступает в рекруты или берет задаток, не может ссылаться на природную робость и обязан не только принимать участие в сражении, но и не бежать без разрешения своего начальника. А когда защита государства требует содействия всех, способных носить оружие, всякий обязан принимать участие в этой защите. Ибо в противном случае тщетным оказывается установление государства, которое граждане не имеют желания или мужества сохранить.
Никто не имеет свободы оказывать сопротивление мечу государства в целях защиты другого человека, виновного или невинного, ибо такая свобода лишает суверена возможности защищать нас и разрушает поэтому самую сущность власти. А если большая масса людей оказала уже совместно неправильное сопротивление верховной власти или совершила уголовное преступление, за которое каждый из них ждет смертной казни, то разве они не имеют в этом случае свободы соединиться вместе в целях взаимной помощи и взаимной защиты? Конечно, имеют, ибо они лишь защищают свою жизнь, на что виновный имеет такое же право, как и невинный. Их предыдущее нарушение своих обязанностей было действительно беззаконным, но последовавшее за этим пускание в ход оружия хотя и имеет своей целью поддержать то, что ими сделано, однако не является новым незакономерным актом. А когда оружие пускается в ход лишь в целях самозащиты, то это вполне закономерно. Но если некоторым из этой массы предлагается прощение, то это отнимает у тех, кому это предлагается, предлог самозащиты и делает их упорство в оказании содействия и защиты остальным незаконным.
Что же касается остальных свобод, то они проистекают из умолчания закона. Там, где суверен не предписал никаких правил, подданный свободен делать или не делать согласно своему собственному усмотрению. И такой свободы бывает в одних местах и в одни времена больше, в других местах и в другие времена меньше, соответственно тому, как оно представляется наиболее целесообразным тем, которые обладают верховной властью. Например, было время, когда в Англии человек имел право силой отнять свой участок земли у его незакономерного владельца. Однако в последующее время эта свобода насильственного отнятия была отменена статутом, принятым (королем) в парламенте. А в некоторых частях света мужчины имеют право иметь много жен, в других же такая свобода не допускается.
Если подданный имеет какой-нибудь спор со своим сувереном относительно долга, права владения недвижимым или движимым имуществом или относительно какой-нибудь службы, которая от него требуется, или относительно какой-нибудь кары, физической или денежной, и если все это имеет своим основанием изданный ранее закон, то подданный так же свободен добиваться своего права, как если бы это была тяжба с другим подданным, и он может добиваться своего права перед судьями, назначенными сувереном. Ибо, так как мы видим, что суверен предъявляет свои требования на основании ранее изданного закона, а не на основании своей власти, то он этим объявляет, что он требует не больше того, что окажется обязательным по смыслу закона. Домогательство подданного не идет поэтому в нашем случае вразрез с волей суверена, и, следовательно, подданный свободен требовать, чтобы его дело слушалось и решалось согласно этому закону. Однако если суверен требует или берет что-нибудь на основании права своей верховной власти, то такие случаи не подлежат обжалованию. Ибо все, что суверен делает в силу своей власти, он делает в силу полномочий, данных ему каждым подданным, а следовательно, тот, кто подает жалобу на своего суверена, подает жалобу на самого себя.
Если монарх или верховное собрание жалуют всем своим подданным или некоторым из них такую свободу, наличие которой делает суверена неспособным заботиться об их безопасности, то, если при этом суверен не отрекся прямо от своей власти или не перенес ее на кого-нибудь другого, пожалование недействительно. Ибо так как он мог бы открыто и в ясных выражениях отречься (если бы такова была его воля) и он этого не сделал, то следует умозаключать, что это не было его волей, а что пожалованье проистекало из непонимания противоречия между такой свободой и верховной властью. Поэтому верховная власть остается за этим монархом или собранием, и, следовательно, за ними остаются все те права, без которых верховная власть не может быть осуществлена, а именно права объявления войны и заключения мира, право юрисдикции, назначения чиновников и советников, взимания налогов и остальные права, указанные в гл. XVIII.
Обязанности подданных по отношению к своему суверену предполагаются существующими лишь в течение того времени – и не дольше, – пока суверен имеет силу защищать их. Ибо данное людям природой право защищать самих себя, когда никто другой не может их защищать, не может быть отчуждено никаким договором. Суверенная власть есть душа государства, и если эта душа покидает тело, члены не получают от нее никакого движения.
Целью повиновения является защита, и тому, в чем человек видит свою защиту, будет ли это его собственный меч или меч другого, он склонен от природы повиноваться, и он стремится это поддержать. И хотя верховная власть согласно положению его учредителей должна быть бессмертной, однако по своей собственной природе она не только подвержена насильственной смерти благодаря внешней войне, но в силу невежества людей и их страстей она носит в себе с момента своего учреждения семена естественной смерти или семена распада от внутренних распрей.
Если подданный взят в плен на войне или если его личность или средства существования находятся под охраной врага и ему даруются жизнь и физическая свобода под тем условием, что он станет подданным победителя, то подданный волен принять это условие, а приняв это условие, он становится подданным того, кто его взял в плен, ибо у него нет другого средства сохранить свою жизнь.
Точно так же обстоит дело, если кто-либо арестован в чужой стране и ему предлагается свобода на таких же условиях. Но если человек держится в заключении или в цепях и физическая свобода ему не предоставлена, то нельзя считать его связанным договором о подданстве, и он поэтому имеет право использовать все доступные ему средства для побега.
Если монарх отрекается от верховной власти за себя и за своих наследников, то его подданные возвращаются к состоянию абсолютной естественной свободы, ибо хотя легко установить, кто его сыновья и кто его ближайшие родственники, однако (как это было указано в предшествующей главе) от собственной воли монарха зависит, кто будет его наследником. Если монарх поэтому не желает иметь наследника, то нет верховной власти и нет подданства. Таково же положение, если монарх умер, не объявив, кто должен быть его наследником, и нельзя также установить, кто его родственники. Ибо в этом случае нельзя установить, кто является наследником, и, следовательно, никто не обязан подданством.
Если монарх подвергает подданного изгнанию, то последний в течение периода изгнания не является подданным. Но тот, кто послан за границу с каким-нибудь поручением, или тот, кто получил разрешение путешествовать, остаются подданными. Притом последние остаются подданными не в силу своего договора о подданстве, а в силу договора между суверенами. Ибо всякий, вступающий на территорию чужого государства, обязан подчиняться всем законам этого государства за исключением того случая, когда чужестранец пользуется особой привилегией благодаря дружбе между его сувереном и сувереном той страны, где он временно пребывает, или когда он имеет специальное разрешение сохранить старое подданство.
Если побежденный на войне монарх отдается в подданство победителю, то подданные освобождаются от их прежних обязанностей и становятся подданными победителя. Однако если побежденный монарх содержится в тюрьме или не пользуется физической свободой, то нельзя предполагать, что он отрекся от прав верховной власти, а поэтому его подданные обязаны повиноваться всем ранее установленным властям, правящим не от своего имени, а именем попавшего в плен монарха. Ибо так как его права остаются, то вопрос может быть лишь об администрации, то есть о магистратах и чиновниках. И если монарх не имеет возможности назначать их, то предполагается, что он одобряет тех, кого он раньше назначил.
Глава XXII
О подвластных корпорациях, политических и частных
Изложив свой взгляд на возникновение, формы и власть государств, я намерен в ближайшем говорить о частях последних. И прежде всего я буду говорить о корпорациях, которые аналогичны частям или мускулам естественного тела. Под корпорацией я подразумеваю известную группу людей, объединенных общим интересом или общим делом. Из этих корпораций некоторые называются регулярными, другие – иррегулярными. Регулярными называются те, в которых один человек или собрание людей установлены представителями всей группы. Все другие системы называются иррегулярными.
Из регулярных корпораций некоторые абсолютны или независимы, будучи подвластны лишь своим представителям. Таковы лишь одни государства, о чем я говорил непосредственно в предшествующих пяти главах. Другие – зависимы, то есть подвластны какой-нибудь верховной власти, подданными которой являются как каждый член этих систем, так и их представительства.
Из подвластных корпораций некоторые являются политическими, другие – частными. Политическими (иначе называемыми политическими телами и юридическими лицами) являются те корпорации, которые организованы на основании полномочий, данных им верховной властью государства. Частными являются те, которые установлены подданными между собой или образованы на основании полномочий, данных чужеземной властью. Ибо все, что в государстве образовано на основании полномочий, данных иностранной верховной властью, не может иметь публично-правового характера, а имеет лишь частный характер.
И из частных корпораций некоторые законны, другие – противозаконны. Законны те, которые допущены государством, все другие противозаконны. Иррегулярными называются те корпорации, которые, не имея никакого представительства, представляют собой лишь скопление людей. Если такое скопление не запрещено государством и не имеет дурных целей (как, например, скопление народа на базарах, на публичных зрелищах или по какому-нибудь другому невинному поводу), оно законно. Если же это скопление с дурными намерениями или если (в случае слишком большого скопления) намерение толпы неизвестно, то такое скопление противозаконно.
В политических корпорациях власть представительства всегда ограниченна, причем границы ей предписываются верховной властью, ибо неограниченная власть есть абсолютный суверенитет. И в каждом государстве суверен является абсолютным представителем всех подданных. Поэтому всякий другой может быть представителем части этих подданных лишь в той мере, в какой это разрешается сувереном. Но разрешить политическому корпусу подданных иметь абсолютное представительство всех его интересов и стремлений значило бы уступить соответствующую часть власти государства и разделить верховную власть, что противоречило бы целям водворения мира среди подданных и их защиты. Такого намерения нельзя предположить у суверена при каком бы то ни было акте пожалования, если суверен одновременно с этим ясно и определенно не освобождает указанной части подданных от их подданства. Ибо сочетание слов не является знаком его воли, когда другое сочетание является знаком противоположного. Это сочетание является скорее знаком заблуждения и недоразумения, которым слишком подвержен весь человеческий род. Познание границ власти, данной представителю политического тела, может быть почерпнуто из двух источников. Во-первых, из грамоты, данной этому корпусу сувереном, во-вторых, из закона государства.
В самом деле, хотя при установлении или приобретении государства не требуется никакой грамоты, ибо государства независимы и власть представителя государства не имеет никаких других границ, кроме тех, которые установлены неписаными естественными законами, однако в подвластных корпусах требуется столько разнообразных ограничений в отношении круга их задач, места и времени, что их нельзя запомнить без писаной грамоты и нельзя их познать без такой жалованной грамоты, которую могли бы читать те, которым это ведать надлежит, и которая одновременно с этим была бы скреплена печатью или удостоверена печатью или другими обычными знаками высочайшего одобрения.
И так как такие границы не всегда легко и даже не всегда возможно иметь в грамоте, то обычные законы, общие для всех подданных, должны определить, что может законным образом делать представитель во всех тех случаях, о которых умалчивает грамота.
И поэтому, если представитель политического тела там, где этим представителем является один человек, совершит что-либо в качестве представителя, что не дозволено ни грамотой, ни законом, то это является его собственным актом, а не актом всего тела или какого-нибудь другого члена этого тела, помимо него. Ибо за пределами, очерченными грамотой или законами, он не представляет никого, кроме своей собственной личности. Но то, что он совершает в соответствии с грамотой и законами, является актом каждого члена политического тела, ибо за каждый акт суверена ответственным является каждый подданный, так как суверен является неограниченным уполномоченным своих подданных, а акт того, кто не отступает от грамоты суверена, является актом суверена, и посему ответственность за него ложится на каждого члена корпуса.
Если же представителем тела является общее собрание его членов, то всякое постановление этого общего собрания, противоречащее грамоте или закону, является актом этого собрания или политического тела, а также актом каждого члена этого собрания, который своим вотумом способствовал принятию указанного постановления, но оно не является актом такого члена собрания, который, присутствуя на собрании, голосовал против постановления, или такого члена, который вообще отсутствовал, если только последний не голосовал за постановление при посредстве доверенного лица. Постановление является актом собрания, ибо оно принято его большинством, и, если это постановление является преступлением, собрание может быть подвергнуто наказанию, соответствующему искусственному характеру его лица. Оно может быть, например, распущено или лишено грамоты (что для таких искусственных и фиктивных тел является смертной казнью), или (если собрание имеет общий капитал, в котором ни один из его невинных членов не участвует) оно может быть подвергнуто денежному штрафу. Ибо физическому наказанию политическое тело не может быть подвергнуто по самой своей природе. Члены же собрания, не подавшие своего голоса за постановление собрания, не виновны потому, что собрание не может никого представлять в делах, не дозволенных его грамотой, и, следовательно, постановление собрания не может быть вменено в вину указанным членам.
Если представитель политического тела там, где такое представительство является единоличным, занимает деньги у постороннего, то есть у кого-нибудь, кто не принадлежит этому самому телу (ибо ограничение займов предоставлено человеческой склонности, и нет поэтому необходимости, чтобы такое ограничение регулировалось какими бы то ни было грамотами), то должником является представитель. Ибо если бы представитель был уполномочен грамотой заставлять членов платить по его займам, то он имел бы над ними верховную власть. Поэтому или пожалованная грамота была бы в этом случае недействительна как основанная на недоразумении и являющаяся недостаточным знаком воли суверена, пожаловавшего ее, или же, если бы она была подтверждена последним, тогда представитель стал бы сувереном, и случай этот выходил бы из рамок нашего рассмотрения, ибо речь идет у нас сейчас о подвластных телах. Ни один член политического тела, кроме самого представителя, не обязан поэтому платить по такому займу, ибо заимодавец, на которого не распространяется действие грамоты и который не принадлежит к данному политическому телу, считает своими должниками лишь тех, кто обязался, и, видя, что представитель может обязать самого себя и никого другого, считает его одного своим должником. Поэтому этот представитель должен платить или из общей кассы (если таковая имеется), или (если таковой нет) из своего собственного состояния. Таким же образом обстоит дело, если представитель стал должником в силу договора или в силу наложенного на него штрафа.
Если же представителем является собрание, а деньги причитаются постороннему корпорации лицу, то за долг отвечают все те и лишь те, которые голосовали за заем или за заключение того договора, которым этот долг обусловлен, или за то деяние, за которое наложен штраф, так как каждый голосовавший за что-нибудь из перечисленных вещей обязался к уплате. Ибо тот, кто ответствен за заключение займа, обязан уплатить даже весь долг, хотя он освобождается от этой обязанности, если уже кто-нибудь уплатил.
Однако если долг причитается одному из членов собрания, то собрание обязано платить лишь из общей кассы (если таковая имеется). Ибо заимодавец волен в своем голосовании. Поэтому если он голосовал в пользу заключения займа, то он голосовал и за его уплату. Если же он голосовал в собрании против займа или отсутствовал при обсуждении этого вопроса, то предоставлением займа он аннулирует свое прежнее голосование и голосует теперь за заем, каковое голосование его обязывает к уплате, в силу чего он становится одновременно заимодавцем и должником и, следовательно, не может требовать уплаты от кого-либо в отдельности, а лишь из общей кассы. Если же эта касса пуста, наш заимодавец ни к кому не может предъявить никакого иска и должен пенять на самого себя за то, что, будучи посвященным в дела собрания и в состояние его средств, он, тем не менее, по собственной глупости дал собранию деньги взаймы.
Из всего сказанного явствует с очевидностью, что в подвластных политических телах, подчиненных верховной власти, иногда не только законно, но и целесообразно, чтобы отдельные члены их открыто протестовали против постановлений представительного собрания и заставляли бы вносить в протокол или так или иначе засвидетельствовать их несогласие, ибо иначе они могут оказаться обязанными платить долги по договорам, заключенным другими людьми, и отвечать за преступления, совершенные другими людьми. Однако в верховном собрании нет места такой свободе, во-первых, потому, что протестующий отрицает своим протестом верховную власть собрания, а во-вторых, потому, что все, что повелевает верховная власть в отношении подданного (хотя не всегда в глазах Бога), оправдано этим повелением, ибо ответственным за такое повеление является каждый подданный.
Разнообразие политических тел почти безгранично, ибо они различаются не только по кругу задач, для которых они установлены и которые сами по себе бесконечно разнообразны, но также и в отношении времени, места и числа, которые подвержены многим ограничениям. А что касается самых тел, некоторые установлены для функций управления. А прежде всего управление какой-нибудь провинцией может быть поручено собранию людей, в котором все решения должны быть приняты большинством голосов, и тогда это собрание является политическим телом, и его власть ограничена рамками поручения. Слово «провинция» означает попечение или заботу о делах, которые тот, чьими делами они являются, поручает другому человеку, чтобы он управлял ими в интересах доверителя и под его верховным надзором. Вот почему если в одном государстве имеются различные страны, имеющие отличные друг от друга законы или пространственно удаленные друг от друга, то управление ими обыкновенно поручается различным лицам, а такие страны, которые не управляются непосредственно сувереном, а по поручению, называются провинциями. Однако мы имеем мало примеров того, чтобы провинция управлялась собранием, имеющим пребывание в самой этой провинции. Римляне, верховная власть которых простиралась на многие провинции, управляли ими, однако, всегда при посредстве наместников и преторов, а не при посредстве собраний, как они управляли городом Римом и примыкающими к нему территориями. Точно так же, когда высланы были Англией колонисты, чтобы основать Виргинию и Соммерэйленд, то хотя управление этими колониями было поручено собраниям в Лондоне, однако эти последние никогда не поручали управление от их имени собранию в самых колониях, а посылали в каждую колонию губернатора. Дело в том, что хотя всякий человек желает участвовать в управлении там, где это физически возможно, однако там, где такое непосредственное участие невозможно, люди по природной склонности предпочитают поручить управление своими общими делами скорее монархической, чем демократической, форме правления. Наличие такой человеческой склонности подтверждается также тем обстоятельством, что, если люди, владеющие большим частным состоянием, не желают брать на себя труд управления своими делами, они предпочитают поручить это управление одному слуге, чем собранию своих друзей или слуг. Однако, как бы ни обстояло дело фактически, гипотетически мы можем принять, что управление провинцией или колонией поручено собранию. И в этом случае я утверждаю, что всякий долг, обусловленный договором, заключенным собранием, и всякое противозаконное постановление этого собрания являются актом лишь тех, которые голосовали за этот договор или за это постановление, но не являются актом тех, которые голосовали против или которые отсутствовали при обсуждении и решении этих вопросов. Основания этого моего утверждения были изложены выше. Кроме того, я утверждаю, что собрание, имеющее пребывание вне пределов той колонии, управление которой находится в его руках, не может где бы то ни было вне самой колонии осуществлять никаких прав власти в отношении личности или имущества жителей этой колонии, следовательно, и не может вне колонии задержать кого-нибудь из этих жителей или наложить арест на его имущество за неуплату им долга или за невыполнение какой-нибудь другой обязанности, так как это собрание не имеет никакой юрисдикции и никаких полномочий вне управляемой им колонии. В указанном случае этому собранию остается лишь прибегнуть к тем средствам, которые допускаются законами той страны, где находятся указанный ответчик или обвиняемый. И хотя собрание имеет право наложить денежный штраф на своего члена за нарушение им установленного собранием закона, однако вне самой колонии оно не имеет права привести этот свой приговор в исполнение. И то, что сказано здесь о правах собрания, на которое возложено управление провинцией или колонией, применимо также к собранию, на которое возложено управление городом, университетом, колледжем, церковью или вообще какой-нибудь группой людей.
И как общее правило можно установить, что если член какого-нибудь политического тела считает себя обиженным политическим телом, то дело это подсудно суверену и тем, кого суверен установил судьями для подобных случаев или для этого частного случая, но оно не подсудно самому политическому телу, ибо политическое тело в целом является в этом случае таким же подданным, как и истец. Иначе обстоит дело в верховном собрании. Ибо если суверен не мог бы быть здесь судьей, хотя бы и в своем собственном деле, то для нашего случая не было бы вообще судьи.
В политических телах, имеющих своей задачей наилучшую организацию внешней торговли, наиболее целесообразной формой представительства является собрание всех их членов, то есть такая форма представительства, при которой каждый человек, вкладывающий в эту торговлю свои деньги, мог бы по желанию участвовать в обсуждениях и решениях тела. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, нам стоит лишь поразмыслить над тем, ради чего, собственно, люди, занимающиеся торговлей и имеющие возможность покупать и продавать, экспортировать и импортировать свои товары по своему усмотрению, объединяются, тем не менее, в корпорацию. Правда, лишь немногие купцы имеют возможность для экспорта нагрузить корабль теми товарами, которые они покупают дома, или для импорта теми товарами, которые они покупают за границей, и поэтому они вынуждены объединиться в общество, где каждый из них мог бы участвовать в прибылях пропорционально своим вложениям или взять свой собственный товар и продавать то, что он экспортирует или импортирует, по цене, которую он сочтет для себя наиболее подходящей. Однако такое общество не является политическим телом, так как оно не имеет общего представительства, которое обязало бы членов этого общества к какому-нибудь закону, помимо законов, общих для всех подданных. Целью объединения купцов в корпорацию является увеличение прибыли путем монопольного права покупки и путем монопольного права продажи как дома, так и за границей. Так что пожаловать какой-нибудь торговой компании права корпорации – значит пожаловать ей двойную монополию, а именно право быть монопольными покупателями и право быть монопольными продавцами. Ибо если какая-нибудь торговая компания получает права корпорации для какой-нибудь внешней страны, то только эта компания может экспортировать в эту страну товары, имеющие там сбыт, но это значит, что эта компания имеет право монопольной покупки дома и монопольной продажи за границей. Ибо дома имеется лишь один покупатель, а за границей лишь один продавец, что представляет двойную выгоду для соответствующих купцов, так как они дома благодаря этому покупают по наиболее низкой цене, а за границей продают по наиболее высокой цене. В отношении же импортирующей компании монопольные права выражаются в том, что эта компания является единственной покупательницей за границей тамошних товаров и единственной продавщицей этих товаров дома, что опять-таки представляет двойную выгоду для участников.
Из этой двойной монополии одна часть невыгодна для туземного населения, другая – для иностранного. Ибо дома купцы благодаря своему монопольному праву на экспорт устанавливают по своему произволу цены на продукты сельского хозяйства и ремесла, а благодаря монополии на ввоз они устанавливают по своему произволу цены на иностранные товары, в которых нуждается население; и то и другое невыгодно для населения. При монопольной же продаже туземных товаров за границей и монопольной покупке заграничных товаров на месте они, к невыгоде иностранного населения, повышают цены на первые и снижают цены на последние. Ибо там, где имеется лишь один продавец, товары наиболее дороги, а там, где имеется лишь один покупатель, товары наиболее дешевы. Такие корпорации являются поэтому не чем иным, как монополиями, и они были бы очень выгодны для государства, если, будучи объединены в единое тело на заграничных рынках, они предоставляли бы на внутренних рынках своим членам свободу покупать и продавать по той цене, по которой они могут.
Так как целью этих торговых корпораций является не общее благо корпорации в целом (общая касса их в этих случаях составляется лишь из вычетов из частных вкладов в целях сооружения и покупки кораблей, найма экипажа и содержания его), а лишь частный барыш каждого ее члена, то это является основанием, чтобы каждый член корпорации был осведомлен о своем собственном деле, то есть чтобы каждый член корпорации был членом собрания, имеющего власть руководить этим делом, и был знаком с отчетностью. Вот почему представителем такой корпорации должно быть собрание, в совещаниях которого всякий член корпорации может при желании участвовать.
Если политическое тело купцов актом своего представительного собрания берет на себя денежное обязательство по отношению к лицу, постороннему политическому телу, то каждый член корпорации в отдельности отвечает за весь долг. Ибо постороннему лицу нет никакого дела до частных законов корпорации, и оно рассматривает всех ее членов как отдельных людей, каждый из которых обязуется к уплате всего долга, если кто-нибудь другой не заплатит и не освободит от уплаты всех остальных. Если же долг причитается кому-нибудь из членов компании, то кредитор является и должником на всю сумму по отношению к самому себе, и он поэтому может требовать уплаты долга ему лишь из общей кассы, если таковая имеется.
Если государство накладывает налог на корпорацию, то этот налог падает на каждого члена пропорционально сумме его вложений в компанию. Ибо в этом случае нет другой общей кассы, кроме той, которая составляется из частных вложений.
Если на корпорацию за какой-нибудь противозаконный ее акт наложен денежный штраф, то в уплате его должны участвовать лишь те члены, голосами которых этот акт был постановлен или при содействии которых это постановление было приведено в исполнение. Ибо никто из остальных членов не совершил никакого преступления, если не считать преступлением то, что он состоит членом корпорации. Но если это преступление, то не его преступление (ибо корпорация была образована на основании полномочий государства).
Если член корпорации является должником по отношению к корпорации, то последняя может предъявить к нему иск. Но как имущество, так и личность должника могут быть подвергнуты аресту лишь на основании приказа государства, а не на основании приказа корпорации. Ибо если корпорация могла бы это делать собственной властью, то она могла бы собственной властью признать долг подлежащим уплате, что означало бы быть судьей в собственном деле.
Эти корпорации для управления людьми или торговлей бывают или постоянные, или временные, на срок, предписанный данной им грамотой. Но бывают корпорации, время которых ограничено лишь природой подлежащих их ведению дел. Так, например, если монарх или верховное собрание сочтут за благо отдать приказ городам и другим частям его территории послать к нему депутатов, с тем чтобы они информировали суверена о положении и нуждах его подданных или совещались с ним как с лицом, представляющим всю страну, о способе издания хороших законов или для какой-нибудь другой цели, то такие депутаты, для собрания которых указано определенное время и определенное место, представляют собой в этом месте и в это время политическое тело, представляющее каждого подданного этого государства. Однако собрание таких депутатов является политическим телом лишь по тем вопросам, которые им предложены тем человеком или собранием, который или которое именем верховной власти созвали их, а когда будет объявлено, что нечего больше предлагать их обсуждению и им нечего больше дебатировать, то этим политическое тело будет распущено. Ибо, если бы они были абсолютными представителями народа, тогда их собрание было бы верховным собранием, и тогда было бы два верховных собрания или два суверена над одним и тем же народом, что несовместимо с мирным существованием народа. И поэтому там, где имеется суверен, не может быть никакого абсолютного представительства народа, помимо него. А что касается тех границ, в которых такое тело может представлять весь народ, то эти границы устанавливаются той грамотой, которой депутаты созваны. Ибо народ не может выбирать своих депутатов для иных целей, чем те, которые выражены в адресованной ему его сувереном грамоте.
Частными, регулярными и законными корпорациями являются такие, которые установлены без всякой грамоты или других письменных полномочий помимо законов, общих для всех других подданных. И они считаются регулярными, так как их члены объединяются в одном лице – представителе. Таковы, например, все семьи, в которых отец или хозяин руководят всей семьей. Ибо отец и хозяин обязывают своих детей и слуг лишь в рамках, допущенных законом, но не дальше, так как никто из указанных подчиненных не обязан повиноваться в таких делах, которые запрещаются законом. Во всех остальных делах они в течение того времени, пока находятся под семейным режимом, подвластны отцам и хозяевам как своим непосредственным суверенам. Ибо так как отец и хозяин были до установления государства абсолютными суверенами в своих собственных семьях, то они, по установлении государства, потеряли от своей власти не больше, чем то, что отнял у них закон государства.
Частными регулярными, но противозаконными корпорациями являются такие, члены которых объединены в одном лице – представителе, но которые не легализованы государством. Таковы, например, корпорации нищих, воров и цыган, образованные в целях наилучшей организации своего промысла: попрошайничества и воровства, а также корпорации людей, которые по инспирации из-за границы объединяются в каком-нибудь государстве для наилучшего распространения доктрин и для образования партий, подрывающих власть этого государства.
Иррегулярные корпорации, являющиеся лишь лигами, а иногда простым скоплением людей, не объединенных для какой-нибудь определенной цели и не связанных никакими взаимными обязательствами, а лишь сходством желаний и наклонностей, – такие корпорации становятся законными или противозаконными в зависимости от законности или противозаконности цели каждого отдельного их участника, а эта цель должна быть выявлена в каждом отдельном случае.
Лиги подданных (так как лиги обычно организуются в целях взаимной защиты) в большинстве случаев не нужны в государстве (которое представляет собой не больше чем лигу всех подданных) и скрывают в себе противозаконные цели. Они поэтому противозаконны и считаются обыкновенно крамолой и заговором. В самом деле, так как лига есть объединение людей путем договоров, то если одному человеку или собранию не дано власти заставлять договаривающихся выполнять свои обязательства (как это бывает при естественном состоянии), лига имеет силу лишь до тех пор, пока не возникает обоснованный повод к взаимному недоверию. Поэтому лиги государств, над которыми не установлена никакая человеческая власть, могущая держать их в страхе, являются не только законными, но и выгодными в течение того времени, пока они действуют. Однако лиги подданных одного и того же государства, где справедливые требования всякого подданного могут быть удовлетворены средствами верховной власти, не необходимы для поддержания мира и справедливости и (в случае если они ставят себе дурные дели или если их цели неизвестны государству) противозаконны. Ибо всякое объединение сил частных людей незакономерно, если оно имеет дурные цели; если же намерение неизвестно, то оно опасно для государства и незакономерно засекречено.
Если верховная власть принадлежит многочисленному собранию и несколько человек, принадлежащих к этому собранию, не имея на то полномочий, подговаривают часть этого собрания захватить в свои руки руководство остальными, то это крамола и преступный заговор, ибо это злостное развращение собрания в своих собственных интересах. Но если тот, чье частное дело обсуждается и решается в собрании, старается расположить в свою пользу возможно больше членов его, то он не совершает никакого преступления, ибо в этом случае он не является частью собрания. И если даже он располагает членов собрания в свою пользу подкупом, то это все же не является преступлением (если только это не запрещено определенным законом). Ибо иногда (таковы уже нравы людей) невозможно добиться справедливости без подкупа, и всякий человек может считать свое дело правым до тех пор, пока оно не слушалось и решалось в суде.
Если частный человек в каком-нибудь государстве содержит больше слуг, чем это требуется управлением его состояния и тем законным делом, для которого он их применяет, то это заговор и преступление. Ибо, пользуясь защитой государства, подданный не нуждается в защите собственной силой. И так как у народов не вполне цивилизованных многочисленные семьи жили в непрерывной взаимной вражде между собой и совершали нападения друг на друга при помощи собственной челяди, то отсюда достаточно очевидно, что они совершали преступления или же что они не жили в государстве.
И как заговоры в пользу родственников, точно так же и заговоры в пользу той или другой формы управления религией, как заговоры папистов, протестантов и т. п., или заговоры сословий, как патрициев и плебеев в Древнем Риме и аристократических и демократических партий в Древней Греции, незаконны, ибо все такие заговоры противоречат интересам мира и безопасности народа и вырывают меч из рук суверена.
Скопление народа является иррегулярной системой, законность или противозаконность которой зависят от повода к скоплению и от числа собравшихся. Если повод законен и явен, скопление законно. Таково, например, обычное скопление народа в церкви или на публичных зрелищах, если число собравшихся не выходит из рамок обыкновенного, ибо, если число собравшихся слишком велико, повод неясен, и, следовательно, всякий, кто не может дать подробного и ясного отчета о мотивах его участия в толпе, должен считаться преследующим противозаконные и мятежнические цели. Можно считать вполне законным для тысячи человек составить общую петицию, которая должна быть представлена судье или магистрату, однако если тысяча человек пойдет подавать ее, то это уже мятежническое собрание, ибо для этой цели достаточно одного или двух человек. Однако в подобных случаях делает собрание незаконным не какое-нибудь установленное число, а такое число, которое наличные представители власти неспособны укротить или передать в руки правосудия.
Если необычно большое число людей собирается, чтобы обвинить кого-нибудь, то такое собрание является противозаконным беспорядком, ибо они могут представить свою жалобу магистрату при посредстве немногих людей или одного человека. Таков был случай с апостолом Павлом в Ефесе, где Димитрий и огромное число других людей привели двух спутников Павла перед магистратом, крича в один голос: Велика Артемида Ефесская – взывая таким путем к правосудию против обвиняемых за то, что они проповедовали народу учения, идущие против их религии и наносящие ущерб их ремеслу. Повод к обвинению с точки зрения законов этого народа был правилен, тем не менее это сборище сочли незаконным, а блюститель порядка упрекал собравшихся за это сборище в следующих словах1: Если Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой при чины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Блюститель порядка, таким образом, называет здесь собрание, для которого люди не могут привести достаточного основания и в котором они не могут дать отчета, возмущением. И этим исчерпывается все, что я могу сказать относительно корпораций и собраний людей, которые могут быть сравниваемы (как я сказал) со сходными частями человеческого тела: законные корпорации и собрания – с мускулами, противозаконные – с шишками, желчью и нарывами, порожденными неестественным скоплением дурной жидкости.
1 Деяния апостолов 19, 40.
Глава XXIII
О политических служителях верховной власти
В последней главе я говорил о сходных частях государства. В этой главе я буду говорить об органических частях, каковыми являются политические служители.
Политическим служителем является тот, кому суверен (будь то монарх, будь то собрание) поручает известный круг дел с полномочиями представлять в этом круге дел лицо государства. И так как всякий человек или собрание, обладающие верховной властью, представляют два лица или (как более обычно выражаются) имеют два качества, одно – естественное, а другое – политическое (например, монарх является носителем не только лица государства, но также лица человека, а верховное собрание является носителем не только лица государства, но также лица собрания), то те, которые служат носителю верховной власти в его естественном качестве, не являются политическими служителями, и лишь те являются таковыми, которые служат суверену по управлению государственными делами. Поэтому в аристократиях и демократиях не являются политическими служителями полицейские, сержанты и другие чиновники, дежурящие в собрании исключительно для удобства членов собрания, а в монархии политическими служителями не являются дворецкие, камердинеры, казначеи и другие чиновники двора монарха.
Некоторым из политических служителей поручается общее управление или всем государством или лишь частью его. Политическими служителями для управления всем государством являются опекуны и регенты, которым предшественник несовершеннолетнего короля поручает на все время несовершеннолетия своего преемника управление всем королевством. В этом случае всякий подданный обязан повиновением такому регенту постольку, поскольку распоряжения и повеления последнего будут даны именем короля и не будут несовместимы с верховной властью последнего. Политическими служителями для управления частью государства или провинцией являются губернаторы, наместники, префекты или вице-короли, которым монарх или верховное собрание поручат управление какой-нибудь частью государства или провинцией. И в этом случае также каждый из жителей этой провинции обязан подчиняться всем распоряжениям политического служителя, поскольку они сделаны от имени суверена и не наносят никакого ущерба правам верховной власти. Ибо все права таких опекунов, вице-королей и губернаторов обусловлены волей суверена, и никакое поручение, которое им может быть дано, не может быть истолковано как волеизъявление суверена перенести на них верховную власть, если такое намерение не выявилось в ясных и недвусмысленных словах. И этого рода политические служители аналогичны нервам и сухожилиям, которые приводят в движение различные члены естественного тела. Другие политические служители ведают специальной отраслью управления, то есть им поручен специальный круг дел внутри страны или за границей. Из специальных отраслей управления внутри страны на первом месте стоит управление государственным хозяйством. Политическими служителями являются те, которые имеют полномочия в отношении казны, а именно те, которым поручено собирание, получение налогов, пошлин, земельных податей и оброков и всяких других государственных доходов, решение споров и проверка отчетности по этим статьям. Служителями они являются потому, что служат лицу-представителю и ничего не могут предпринять против его приказаний и без его полномочий. Политическими потому, что они служат ему в его политическом качестве.
Политическими служителями являются, во-вторых, те, которым даны полномочия в отношении милиции, то есть те, которым поручена охрана оружия, фортов и портов, или те, которым поручены набор, оплата солдат, или предводительство ими, или снабжение всем необходимым для войны на суше и на море. Однако солдат, не принадлежащий к командному составу, хотя и сражается за государство, не представляет в силу этого лица государства, так как ему не перед кем представлять его. Ибо всякий, имеющий командование, представляет лицо государства лишь перед теми, кем он командует.
Политическими служителями верховной власти являются также те, которые имеют полномочия учить или делать других способными учить людей их обязанностям по отношению к верховной власти и инструктировать их в отношении того, что справедливо и что несправедливо, с тем чтобы сделать их склонными жить в благочестии и в мире между собой и противостоять врагу государства. Служителями они являются потому, что то, что они делают, они делают не по собственному праву, а на основании полномочий другого, а политическими потому, что они делают это (или должны делать) на основании полномочий одного только монарха. Один лишь монарх или верховное собрание имеют полномочия непосредственно от Бога учить и инструктировать людей, и никто, кроме суверена, не получает своей власти просто dei gratia, то есть по милости одного лишь Бога. Все прочие получают свою власть по милости и промыслу Божьему и их суверенов, например, в монархии dei gratia et regis (Божьей милостью и милостью монарха) или dei providentia et voluntate regis (Божьим промыслом и соизволением монарха).
Политическими служителями являются также те, которым поручена юрисдикция, ибо в своем судейском кресле они представляют лицо суверена и их приговор является его приговором. В самом деле (как уже было раньше указано), все судебные функции являются существенной частью верховной власти, и поэтому все судьи являются служителями того или тех, кто имеет верховную власть. И так как споры бывают двоякого сорта, а именно в отношении факта и в отношении закона, то и судебные решения касаются – одни вопросов факта, другие вопросов закона, и, следовательно, в одной и той же тяжбе могут быть двое судей, из которых один решает вопрос факта, другой – вопрос закона.
И по поводу обоих этих споров может возникнуть спор между одной из тяжущихся сторон и судьей. И так как и стороны и судья являются одинаково подданными суверена, то беспристрастное решение их спора должно быть предоставлено людям, выбранным по взаимному соглашению, так как никто не может быть судьей в собственном деле. Но суверен уже выбран судьей с согласия их обоих, а поэтому он или сам должен слушать и решать это дело, или же он должен назначить судьей человека, на котором сойдутся обе спорящие стороны. Это согласие сторон устанавливается различными путями. Прежде всего, если ответчику разрешено сделать отвод против тех своих судей, которые представляются ему заинтересованными в неблагоприятном для него решении (ибо что касается истца, то последний уже выбрал своего судью), то те, против которых он не делает отвода, являются судьями, на которых он сам дал свое согласие. Во-вторых, если ответчик апеллирует к какому-нибудь другому судье, то он больше апеллировать не может, ибо своим апеллированием он его выбрал. В-третьих, если он апеллирует к самому суверену и последний самолично или через уполномоченных, на которых согласятся обе партии, выносит приговор, то этот приговор является окончательным, ибо ответчик был судим его собственными судьями, то есть им самим.
Рассматривая особенность справедливой и разумной организации правосудия, я не могу преминуть отметить превосходную организацию судов как по исковым делам, так и по уголовным делам в Англии. Под исковыми делами я разумею такие, в которых как истец, так и ответчик оба являются подданными, а под уголовными делами (называемыми также делами королевской скамьи) такие, в которых истцом является суверен. Ибо, так как здесь имелись два сословия людей, из которых одни были лордами, другие – простолюдинами, то лорды имели привилегию быть судимыми в уголовных делах только лордами и из них столькими, сколько захотят присутствовать. И так как это считалось милостивой привилегией, то лорды имели лишь таких судей, каких они сами желали. И во всех тяжбах всякий подданный (точно так же в гражданских тяжбах и лорды) имели судьями людей из того графства, где находится объект тяжбы, причем тяжущиеся стороны могли сделать отвод против назначенных им судей, пока наконец, столковавшись на двенадцати человеках, они этими двенадцатью судьями судились. Таким образом, имея желательных ей судей, тяжущаяся сторона не могла представлять никакого довода против того, чтобы приговор был окончательным. Эти политические личности, имеющие полномочия от верховной власти учить или судить людей, являются такими членами государства, которые можно подходящим образом сравнивать с органами человеческого голоса в естественном теле.
Политическими служителями являются также те, которые имеют полномочия от суверена заботиться о приведении в исполнение судебных решений, обнародовать законы суверена, подавлять беспорядки, арестовывать и заключать в тюрьму преступников, а также совершать другие акты, имеющие целью сохранение мира. Ибо всякий акт, который они совершают на основании таких полномочий, является актом государства, и их функции соответствуют функциям руки в естественном теле.
Политическими служителями за границей являются те, которые представляют лицо своего собственного суверена перед иностранными государствами. Таковы послы, вестники, агенты и герольды, посланные государственной властью с политическими поручениями.
Однако посланцы, имеющие полномочия от какой-нибудь частной партии переживающего смуту государства, хотя бы они были приняты, не являются ни политическими, ни частными служителями государства, ибо никакое их действие не совершается по полномочию государства. Частным лицом является также посол, отправленный государем с тем, чтобы принести поздравления, выразить соболезнование или присутствовать при каком-нибудь торжестве, ибо, хотя этот посол имеет полномочия от главы государства, само поручение является частным, дается сувереном в его естественном качестве. Точно так же если человек послан в чужое государство с секретной миссией выведать планы и силы этого государства, то хотя этот человек имеет полномочия от государства и дело, для которого он послан, является государственным, однако, так как никто не замечает в нем иного лица, кроме его собственного, он является лишь частным служителем, но все же служителем государства, и его можно сравнить с глазом в естественном теле. И те, которые назначены принимать прошения и другие информации от людей, являясь как бы ушами государства, являются политическими служителями и представляют в этой должности суверена.
Советник не является политическим лицом (точно так же не является таковым государственный совет, если мы принимаем, что на него не возложены ни судебные, ни командные функции, а лишь возложена обязанность давать советы суверену, когда последний этого требует, или представлять соображения по своей инициативе при отсутствии соответствующего требования со стороны суверена). Ибо со своими советами советник обращается лишь к суверену, чье лицо не может быть в его собственном присутствии представлено другим перед ним. Но корпус советников никогда не бывает без других функций, судебных или по непосредственному управлению. Так, в монархии он представляет монарха, передавая его приказы политическим служителям. В демократии совет или сенат предлагают народу в качестве совета результаты своих обсуждений. Однако когда они назначают судей, или слушают судебные дела, или дают аудиенции послам, то они это делают в качестве служителей народа. А в аристократии государственный совет является самым верховным собранием и дает советы лишь самому себе.
Глава XXIV
О питании государства и о произведении им потомства
Питание государства состоит в изобилии и распределении предметов, необходимых для жизни, в их варении, или приготовлении, и (когда они сварились) в отправке их по соответствующим каналам для общественного потребления.
Что касается изобилия предметов, то оно от природы ограничено теми продуктами земли и моря (двух грудей нашей общей матери), которые Бог обыкновенно или дарит, или продает за труд человеческому роду. Ибо предметы этого питания, заключающиеся в животных, растениях и минералах, Бог свободно положил перед нами на поверхности или вблизи поверхности земли, так что требуются лишь труд и прилежание, чтобы получить их. В этом смысле изобилие зависит (после Господней милости) лишь от труда и прилежания человека. Эти предметы, называемые обычно продуктами, бывают частью ту земными и частью заграничными. Ту земные – это те, которые можно иметь внутри территории государства; заграничные – те, которые импортируются извне. И так как нет территории под властью какого бы ни было государства (разве только она очень обширна), которая производила бы все, что необходимо для поддержания и движения всего тела, и очень мало таких, которые не производили бы какого-нибудь продукта в большем количестве, чем необходимо, то излишние продукты, имеющиеся внутри государства, перестают быть излишними, а замещают собой недостающие дома продукты благодаря импортированию тех товаров, которые можно получить в обмен на них за границей. Недостающие в стране продукты могут быть доставлены из-за границы также путем справедливой войны или путем обмена на труд. Ибо человеческий труд есть также продукт, который можно обменять с пользой, как и всякий другой. И были государства, которые, владея территорией не большей, чем необходимо было для их поселений, тем не менее не только сохранили, но и увеличили свою власть отчасти благодаря ввозной и вывозной торговле, а отчасти благодаря продаже продуктов промышленности, сырье для которых ввозилось из-за границы.
Распределение предметов этого питания есть установление моего, твоего и его, то есть, коротко говоря, собственности, и это распределение при всех формах правления есть дело верховной власти. Ибо там, где нет верховной власти, существует (как уже было указано) непрерывная война всякого человека против своего соседа, а поэтому всякому человеку принадлежит лишь то, что он захватил и держит силой, что не есть ни собственность, ни общность имуществ, а неопределенность. Это настолько очевидно, что даже Цицерон (страстный защитник свободы) приписывает в одной защитительной речи установление всякой собственности гражданскому закону. Откажитесь раз от гражданского закона, говорит он, или будьте лишь нерадивы в его соблюдении, и ни у кого нет уверенности в том, что он сможет получить что либо в наследство от своих предков или оставить своим детям. И в другом месте: упраздните гражданский закон, и никто не будет, знать, что есть его собственное и что чужое. Так как мы видим таким образом, что введение собственности есть действие государства, которое все, что оно делает, может делать лишь через лицо того, кто его представляет, то введение собственности является актом одного лишь суверена. И это давно было известно тем, которые называли νόμος (то есть распределением) то, что мы называем законом, и определяли справедливость как воздавание каждому его собственного.
Первый закон этого распределения касается раздела самой земли. Этим законом суверен обозначает каждому человеку известную долю в соответствии с тем, как он, а не какой-либо подданный или какое-либо число их, сочтет сообразным со справедливостью и с общим благом. Сыны Израилевы были государством в пустыне, но им не хватало продуктов земли, пока они не овладели обетованной землей. Эта земля была впоследствии разделена между ними не по их собственному усмотрению, а по усмотрению первосвященника Елеазара и их предводителя Иисуса, который, несмотря на то что евреев было двенадцать колен, из которых образовались тринадцать, благодаря разделению колена Иосифа на два подколена, тем не менее сделал лишь двенадцать уделов, лишив колено левитов всякой земли и назначив ему десятую долю всех плодов, что являлось произвольным распределением. И хотя народ, овладевший путем войны чужой территорией, не всегда истребляет его древних обитателей (как это делали евреи), а оставляет многим, или большинству из них, или всем им их владения, однако ясно, что после завоевания старое население завоеванной территории владеет своими землями как бы в силу распределения, сделанного победителем. Так, например, обитатели Англии держали свои земли от Вильгельма Завоевателя.
Из сказанного мы можем заключить, что право собственности подданного на свои земли состоит в праве исключить всех других подданных от пользования ими, но не в праве исключить от этого своего суверена (будь последний собранием или монархом). Ибо, так как мы принимаем, что все, что суверен, то есть государство (лицо которого суверен представляет), делает, он делает в интересах общего мира и безопасности, то мы должны принять, что произведенное им распределение земли произведено в тех же целях. Следовательно, всякое распределение, произведенное сувереном в ущерб интересам мира и безопасности, противоречит воле каждого подданного, вверившего его усмотрению и его совести охрану своего мира и своей безопасности, и поэтому в согласии с волей каждого подданного должно считаться недействительным. Монарх или большая часть верховного собрания могут следовательно предписать много вещей для удовлетворения своих личных страстей и против своей собственной совести, что является с их стороны вероломством и нарушением естественных законов, но это недостаточное основание для того, чтобы позволить подданному объявить войну своему суверену, или обвинить его в несправедливости, или так или иначе злословить по его адресу, ибо подданные уполномочили своего суверена на все действия и тем, что облекли его верховной властью, признали эти действия своими. Но в каких случаях повеления суверенов противоречат справедливости и естественным законам, подлежит рассмотрению после, в другом месте.
Можно было бы думать, что при распределении земли само государство может удержать для себя известную часть и владеть ею и обрабатывать ее через своего представителя и что эта часть может быть сделана достаточно большой, чтобы быть в состоянии покрыть все расходы, которых необходимо требует обеспечение общего мира и защиты. Это было бы верно, если бы можно было представить себе какого-нибудь представителя свободным от человеческих страстей и недостатков. Однако при человеческой природе, какова она есть, выделение государственных земель или установление каких-нибудь определенных источников дохода для государства является бесполезным делом и ведет к распаду государственной власти и к возвращению к естественному состоянию и состоянию войны, как только верховная власть попадает в руки монарха или собрания, которые или слишком небрежны в расходовании денег, или слишком склонны воспользоваться государственной кассой, чтобы втянуть страну в длительную и дорогостоящую войну. Государства не могут существовать на пайке. Ибо так как мы видим, что расходы государства зависят не от его собственного расположения, а от внешних обстоятельств и от расположения его соседей, то отсюда ясно, что размеры государственного богатства могут быть ограничены лишь теми рамками, которые допускают возникающие обстоятельства. И если в Англии Завоевателем были резервированы различные земли для его собственного пользования (помимо лесов и мест для охоты, для его развлечения или в целях сохранения лесов), а также различные сервитуты на землях, которые он роздал своим подданным, то они, по-видимому, были резервированы не для государственных целей, а для удовлетворения его личных потребностей. Ибо сам Вильгельм Завоеватель и его преемники при всем том облагали произвольными податями все земли своих подданных, когда считали это необходимым. Или если эти государственные земли и сервитуты были установлены как источник дохода, достаточный для покрытия всех расходов государства, то этот институт не достиг своей цели, ибо (как показывают последовавшие поборы) он оказался недостаточным источником и указанные земли и сервитуты (как показывают недавние незначительные доходы короны) подвергались отчуждению и уменьшению. Бесполезно поэтому выделять для государства земли, которые государство может продать или подарить и действительно продает и дарит, когда это делает его представитель.
Подобно распределению земель дома, точно так же является делом суверена указать, где и какими товарами подданные могут торговать за границей. Ибо если бы было предоставлено частным лицам действовать в этом отношении по своему усмотрению, то некоторые из них, соблазненные перспективой барышей, могли бы или нанести вред государству тем, что стали бы снабжать врага необходимыми ему продуктами, или нанести вред самим себе тем, что стали бы ввозить такие вещи, которые, привлекая человеческие аппетиты, тем не менее вредны или по крайней мере невыгодны им. И поэтому только государство (то есть только суверен) должно определить, разрешая одни и запрещая другие, места и объекты иностранной торговли.
Так как мы дальше видим, что для поддержания государства недостаточно, чтобы каждый человек имел как собственник какой-нибудь участок земли или некоторое количество товаров или обладал природной способностью к какому-нибудь полезному ремеслу и что нет ремесла в мире, которое не было бы необходимо для жизни или для благополучия всякого частного человека, то необходимо, чтобы люди распределили то, что они могут сберечь, и переносили бы взаимно друг на друга собственность на это путем обмена и взаимных договоров. Делом государства (то есть суверена) поэтому является определить, в какой форме всякого рода договоры между подданными (как покупка, продажа, обмен, ссуда, заем, отдача и взятие в аренду) должны быть заключены и при каких словах и знаках они должны считаться действительными. И этим для задачи нашего трактата достаточно сказано о предметах и о распределении питания среди различных членов государства.
Под перевариванием я разумею превращение всех продуктов, которые не потребляются в данный момент, а сохраняются для потребления в будущем, в некоторые вещи, равные им по ценности и вместе с тем настолько портативные, чтобы не препятствовать передвижению людей с места на место, с тем чтобы человек, где бы он ни был, мог иметь именно то питание, которого требует данное место. И такими вещами являются золото, серебро и деньги. Ибо золото и серебро, которые высоко ценятся почти во всех странах света, являются удобным мерилом ценности всех других вещей в сношениях между народами, а деньги (из какого бы материала суверен государства ни чеканил их) являются достаточным мерилом ценности всех других вещей в сношениях между подданными данного государства. При помощи этих мерил все товары, движимые и недвижимые, делаются способными сопровождать человека с места на место внутри или вне места его обычного пребывания. Эти же мерила переходят от человека к человеку внутри государства и в своем прохождении питают каждую часть государства, так что это переваривание является как бы кроветворением государства. Ибо естественная кровь образуется точно таким же образом из продуктов земли и, циркулируя, попутно питает каждый член человеческого тела.
А так как серебро и золото имеют свою ценность от их материала, то они имеют, во-первых, ту привилегию, что их ценность не может быть изменена властью одного или нескольких государств, ибо они являются общим мерилом товаров всех стран. Деньги же, сделанные из неблагородных металлов, могут легко быть повышены и понижены в своей стоимости. Серебро и золото имеют, во-вторых, ту привилегию, что они делают государства способными передвигать свои армии и, если нужно, вести войну на чужой территории, и благодаря им могут снабжаться съестными припасами не только путешествующие частные подданные, но и целые армии. Чеканная же монета, имеющая значение не благодаря ее материалу, а в силу ее местного штампа, не может переходить из страны в страну, а имеет хождение лишь внутри страны, причем и здесь она подвержена изменениям в связи с изменениями законов, так что ее стоимость может быть снижена, весьма часто к ущербу тех, кто ею обладает.
Каналы и пути, по которым деньги передаются для использования их государством, бывают двух сортов. Одни, по которым деньги передаются в государственное казначейство, другие, по которым они направляются из казначейства для производства государственных платежей. Каналами и путями первого сорта являются сборщики податей и казначеи; второго сорта – опять-таки казначеи и чиновники, назначенные для производства оплаты разных политических и частных служителей. И в этом отношении искусственный человек сохраняет свое сходство с естественным, чьи вены, получая кровь от различных частей организма, направляют ее к сердцу, а это последнее, переработав ее, направляет ее обратно, сообщая этим жизнь и способность к движению всем членам человеческого тела.
Потомство, или дети государства, это то, что мы называем колониями, то есть группы людей, высланные государством под предводительством начальника или губернатора, чтобы заселить чужую страну, не имевшую раньше населения или лишившуюся своего населения в результате войны. А когда колония устроилась, то поселенцы или освобождаются от их подданств по отношению к суверену, который их выслал, и образуют самостоятельное государство (что практиковалось многими государствами в древности), в этом случае государство, из которого они вышли и которое обыкновенно называют метрополией или матерью, требует от них не больше того, чего отцы требуют от детей, которых они эмансипируют и освобождают от своей власти, то есть уважения и дружбы; или же они остаются объединенными со своими метрополиями, каковы были колонии Рима, и тогда они не являются самостоятельными государствами, а лишь провинциями и частями выславшего их государства. Так что права колоний (за исключением обязанности уважения по отношению к своей метрополии и союза с ней) определяются всецело той грамотой, которой суверен уполномочил первых поселенцев на их образование.
Глава XXV
О совете
К каким ложным суждениям о природе вещей приводит обычное неустойчивое словоупотребление, видно больше всего из частого смешения советов с приказаниями вследствие общей им императивной формы выражения и во многих других случаях. Ибо слова делай это являются словами не только того, кто приказывает, но и того, кто дает совет, или того, кто увещевает. Правда, там, где замечаешь, кто именно говорит и кому именно адресована речь и по какому поводу, там лишь немногие не заметят, что совет и приказание суть весьма разные вещи, и лишь немногие не сумеют различать между ними. Однако, встречая эти фразы в писаниях, люди из неспособности или нежелания входить в рассмотрение обстоятельств дела часто ошибочно принимают указания советчиков за предписания тех, кто приказывает, а часто, наоборот, в зависимости от того, согласуется ли то или другое с теми выводами, которые они хотят сделать, или с теми деяниями, которые они одобряют. Во избежание таких недоразумений и в целях установления собственного и точного значения слов приказание, совет и увещевание я их дефилирую следующим образом.
Приказание имеется там, где человек говорит: делай это или не делай этого, не обосновывая это ничем другим, как лишь тем, что такова его воля. Отсюда ясно следует, что тот, кто приказывает, преследует этим свою собственную выгоду. Ибо основанием его приказания является лишь его собственная воля, а собственным объектом человеческой воли является некоторое благо для себя.
Совет имеется там, где человек говорит: делай это или не делай этого, обосновывая свои слова какой-нибудь выгодой, которая проистечет от их исполнения для того, кому он это говорит. Отсюда очевидно, что тот, кто дает совет, утверждает, каково бы ни было его намерение, что он дает его из желания добра тому, кому он его дает.
Между приказанием и советом имеется поэтому та большая разница, что приказание имеет целью собственное благо, а совет – благо другого человека. А отсюда вытекает и другая разница, а именно та, что человек может быть обязан делать то, что ему приказывают, как, например, в том случае, когда он заключил договор о повиновении, но он не может быть обязан делать то, что ему советуют, ибо неисполнение совета может повредить лишь ему одному. Если же он обязался договором следовать совету, тогда совет принял бы характер приказания. А третья разница между приказанием и советом заключается в том, что никто не может домогаться права быть советчиком другого, ибо он не может домогаться выгоды для себя от этого, притязание же на право дать совет другому человеку обнаруживает желание знать его намерения или приобрести какое-нибудь другое благо для себя, что является (как я указал раньше) истинным объектом воли всякого человека.
Природе совета свойственно также и то, что, каков бы он ни был, тот, кто его просит, не может по справедливости обвинять или наказывать за него советчика. Ибо просить совета у кого-нибудь – значит разрешить ему дать такой совет, какой он сочтет наилучшим. И следовательно, тот, кто дает совет своему суверену (будь то монарх, будь то собрание) по просьбе последнего, не может быть по справедливости наказан за него независимо от того, согласуется ли или не согласуется этот совет с мнением большинства собрания по вопросу, стоящему на обсуждении. Ибо если мнение собрания может быть установлено до окончания дебатов, то собрание не стало бы просить и не стало бы выслушивать дальнейших советов, так как установленное мнение собрания есть закрытие дебатов и конец обсуждения. И вообще тот, кто просит совета, является его виновником и не может наказать за него; а того, чего не может суверен, не может никто другой. Однако если один подданный дает совет другому делать что-нибудь противозаконное, то он подлежит наказанию независимо от того, проистекает ли его совет из дурного намерения или лишь из незнания законов, ибо незнание законов не является оправданием там, где каждый человек обязан знать законы, которым он подчиняется.
Увещевание и отговаривание есть совет, сопровождаемый знаками, обнаруживающими у советчика пылкое желание, чтобы его совету последовали, или, короче сказать, совет настойчиво навязываемый. В самом деле, тот, кто увещевает, не сообразуется с последствиями того, что он советует делать, и не связывает себя строгими правилами истинного рассуждения, а поощряет того, кому он советует, к действию, как тот, кто отговаривает, удерживает его от действия, и поэтому этого рода советчики приспособляют свои речи и аргументы к обычным страстям и мнениям людей и пользуются уподоблениями, метафорами, примерами и прочими ораторскими приемами, чтобы убедить своих слушателей в том, что исполнение их совета полезно, почетно и справедливо.
Отсюда можно заключить, во-первых, что увещевание и отговаривание направлены к благу того, кто дает совет, а не того, кто его просит, что противоречит обязанности советника, который (согласно определению понятия совета) должен иметь в виду не свою выгоду, а выгоду того, кому он дает совет, а что он своим советом преследует свою собственную выгоду, достаточно явствует из его долгого и настойчивого приставания и из той искусственной формы, в которую он облекает свою речь. Ибо, так как об этом его не просят и, следовательно, он это делает из личных соображений, то это направлено главным образом к его собственной выгоде и лишь случайно к выгоде того, кому он дает совет, или же совсем не к его выгоде. Во-вторых, что увещевание и отговаривание уместны лишь там, где человек обращается с речью к толпе, ибо, когда его речь обращена к одному слушателю, последний может прерывать его и подвергать его аргументы более строгому разбору, чем это может делать толпа, состоящая из многих людей. Вследствие многочисленности толпы никто из ее состава не может вступать в спор и начать диалог с оратором, говорящим одновременно ко всем без разбору.
В-третьих, что те, которые увещевают и отговаривают, когда их просят дать совет, являются коррумпированными советниками и как будто подкупленными своим собственным интересом. Ибо пусть совет будет как угодно хорош, однако тот, кто дает его, является не в большей мере хорошим советчиком, чем тот, кто дает справедливое решение за плату, является справедливым судьей. Но там, где человек имеет право приказывать, как, например, отец в своей семье или полководец в армии, увещевание и отговаривание не только законны, но необходимы и похвальны. Впрочем, тогда они по существу не советы, а приказания, хотя по форме являются увещеваниями, ибо там, где приказания должны побудить к выполнению тяжелой работы, иногда необходимость и всегда человечность требуют, чтобы они были подслащены подбадриванием и чтобы они были выражены скорее в тоне и форме советов, чем более суровым языком команды.
Примеры различия между приказанием и советом мы можем взять из форм речи, которыми они выражаются в Священном Писании. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим; не делай себе никакого изображения; не произноси имени Бога напрасно; наблюдай день субботний; почитай отца твоего и матерь твою; не убивай; не кради и т. д. суть приказания, ибо основание нашей обязанности повиноваться им есть воля Бога, нашего Царя, которому мы обязаны повиновением. Но слова продай все, что имеешь; раздавай это бедным и следуй за Мной суть совет, ибо основанием, почему мы должны так поступать, является наше собственное благо, а именно то, что мы этим приобретем клад на небе. Слова пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу привязанную и молодого осла при ней; отвязав, приведите ко Мне суть приказание, ибо основанием их является воля Господа, но слова покайтесь и креститесь во имя Иисуса являются советом, ибо основанием, почему мы должны так поступать, является не благо Бога всемогущего, который оставался бы царем, как бы мы против Него ни бунтовали, а наше собственное благо, так как у нас нет другого средства избегнуть наказания, которому мы подлежим за наши грехи.
Подобно тому, как мы вывели сейчас отличие совета от приказания из природы совета, определяющейся тем благом или вредом, которые могут проистекать для того, кому дается совет, из неизбежных или вероятных последствий предлагаемого ему деяния, точно так же может быть выведена из этой природы разница между годными и негодными советниками. Ибо так как опыт есть лишь запоминание последствий прежде наблюденных аналогичных действий, а совет лишь та речь, посредством которой этот опыт сообщается другим, то достоинство и недостатки совета суть то же, что достоинство и недостатки интеллекта. А по отношению к личности государства советники последнего исполняют функции памяти и размышления. Однако рядом с этим сходством государства с естественным человеком имеется также чрезвычайной важности различие между ними, состоящее в том, что естественный человек получает свой опыт от естественных объектов чувств, которые действуют на него без всяких побуждений страсти или собственного интереса, между тем как те, которые дают совет представителю государства, могут иметь и часто имеют свои частные цели и личные страсти, делающие их советы всегда подозрительными и часто предательскими. Вот почему мы можем установить в качестве первого условия хорошего советчика, чтобы его цели и интересы не были несовместимы с целями и интересами того, кому он дает совет.
Во-вторых, так как обязанностью советчика при обсуждении какого-нибудь действия является указать на последствия этого действия в такой форме, чтобы тот, кому дается совет, был правдиво и ясно информирован, то советчик должен облечь свой совет в такую форму речи, которая могла бы выявить истину с наибольшей очевидностью, то есть он должен подкрепить свой совет такими сильными доводами и изложить его таким выразительным и точным языком, и притом так кратко, как это требуется в интересах ясности. Поэтому не соответствуют обязанности советчика не обдуманные и неясные умозаключения (такие, которые основаны на примерах и на авторитете книг и не являются доказательствами в отношении добра и зла, а лишь констатированием фактов и мыслей), темные, путаные и двусмысленные выражения, а также метафорические обороты, имеющие целью разнуздать страсти (ибо такие аргументы и такие выражения способны лишь обмануть или вести того, кому мы советуем, к иным целям, чем его собственные).
В-третьих, так как способность давать советы зиждется на опыте и на долгом изучении и нельзя предположить, чтобы кто-нибудь имел опыт во всех тех делах, знание которых необходимо для управления большим государством, то человек может считаться хорошим советчиком лишь в таких делах, в которых он не только весьма сведущ, но о которых он также много думал и которые он много раз взвешивал. Ибо так как мы видим, что задачей государства является обеспечить народу мир внутри и защиту против нападения извне, то мы найдем, что эта задача требует глубокого знания склонностей человеческого рода, прав правительства и природы справедливости, законов, правосудия и чести, каковое знание не может быть приобретено без изучения. Но указанная задача требует также знания силы, средств и мест как собственной страны, так и соседних стран, а также склонностей и намерений всех народов, с которыми можно каким-либо путем прийти во враждебное столкновение, каковое знание может опять-таки быть приобретено лишь благодаря богатому опыту. И не только вся совокупность этих познаний, но каждое из них в отдельности предполагает известный возраст и наблюдения пожилого человека и необычного прилежания. Особенность ума, которая требуется для того, чтобы быть способным давать советы, это, как я уже указал раньше, способность суждения. А различие людей в этом отношении проистекает из различия воспитания, ибо одни люди приспособлены воспитанием к изучению одной отрасли знания или к одному делу, другие – к другому. Когда для выполнения какого-нибудь дела существуют безошибочные правила (как для построения машин и зданий – правила геометрии), тогда весь опыт мира не может сравняться по ценности с советом того, кто изучил или открыл эти правила. Но там, где таких правил нет, лучше всего может судить о каком-нибудь специальном круге вопросов и соответственно является лучшим советчиком по ним тот, кто имеет наибольший опыт в этой области.
В-четвертых, чтобы быть способным давать совет государству в делах, имеющих отношение к другому государству, необходимо быть знакомым со всеми сведениями и документами, которые получаются из этого другого государства, а также со всеми трактатами и другими политическими договорами, заключенными между своим и другим государством, о наличии каковых данных у человека может судить лишь представитель государства. Отсюда можно видеть, что те, которые не призваны в совет, не могут дать хорошего совета в этих случаях.
В-пятых, при одинаковом числе советчиков человек получит лучший совет, если будет выслушивать их каждого в отдельности, чем тогда, когда будет слушать их советы в общем собрании. Во-первых, слушая их разрозненно, вы имеете совет каждого из них, между тем как в общем собрании многие из них подают свой совет путем да или нет или руками и ногами, приведенными в движение не их собственным мнением, а красноречием других, или боязнью обидеть своим несогласием некоторых ораторов или все собрание, или боязнью показаться менее понимающими дело, чем те, кто аплодировал противоположному мнению. Во-вторых, в многочисленном собрании не могут не быть некоторые, интересы которых противоположны интересам государства, и так как эти интересы воодушевляют их, а воодушевление делает их красноречивыми, то они своим красноречием внушают другим свой совет. Ибо страсти разрозненных людей умеренны, как жар одной головни; в собрании же они являются как бы многими головнями, воспламеняющими друг друга (особенно когда они раздувают друг друга речами), с тем чтобы поджечь государство под предлогом оказания ему помощи советом. В-третьих, слушая каждого человека отдельно, мы можем часто прерывать его и возражать ему и таким путем подвергать испытанию правильность его доводов и основания его совета, чего нельзя делать в собрании, где человек (при всяком трудном вопросе) бывает больше поражен и ослеплен разнообразием речей по интересующему его вопросу, чем информирован о том пути, по которому ему следует идти. Кроме того, в многочисленном собрании, созванном с тем, чтобы дать совет, непременно найдутся некоторые, кто из честолюбия желает считаться красноречивым и сведущим в политике и кто дает свой совет, сообразуясь не с интересами того дела, которое предложено их обсуждению, а с тем, чтобы пожинать аплодисменты своими цветистыми речами, испещренными цитатами из разных авторов, что является с их стороны по меньшей мере дерзостью, ибо они этим отнимают время от серьезного обсуждения, и что легко может быть избегнуто при секретном способе индивидуального совещания. В-четвертых, при обсуждении дел, которые надлежит сохранить в тайне (каковыми бывают многие государственные дела), советы многих, а особенно в собраниях, опасны. И поэтому многочисленные собрания вынуждены передавать такие дела более узким собраниям, состоящим из лиц, которые наиболее сведущи в соответствующих вопросах и в преданности которых они более всего уверены.
В заключение мы спросим: разве найдется где-нибудь такой горячий сторонник советов большого собрания, что он стал бы просить совета у такого собрания или стал бы пользоваться таким советом тогда, когда речь идет о женитьбе его детей, о том, как распорядиться его землями, об его домоводстве, об управлении его частным имением, особенно в том случае, когда между членами такого собрания имеются некоторые, не желающие ему добра. Человек, который устраивает свои дела при содействии многих и разумных советников, советуясь с каждым из них в отдельности по тем вопросам, по которым соответствующий советник является наиболее компетентным, поступает наиболее разумно и похож на того, кто, играя в теннис, пользуется содействием способных помощников, расставленных на надлежащих местах. Вслед за ним поступает наилучшим образом тот, кто пользуется исключительно своим собственным умом, как в теннисе тот, кто совершенно не прибегает к содействию помощников. Но тот, кто ищет совета в своих делах у собрания, решение которого зависит от наличия большинства согласных мнений, каковое решение обыкновенно тормозится (из зависти или своекорыстия) несогласной частью, поступает наихудшим образом. Такой человек похож на игрока, которого везут к мячу хотя и хорошие игроки, но на тачке или на другом сооружении, тяжелом самом по себе и замедленном еще разногласием во мнениях и несогласованными усилиями тех, кто его тащит; причем замедленном тем больше, чем больше число лиц, прилагающих к этому руку, и больше всего тогда, когда среди этих лиц имеются один или несколько, которые желают, чтобы играющий проиграл. И хотя верно то, что многие глаза видят больше, чем один, однако это можно применить ко многим советчикам лишь в том случае, когда окончательное решение находится в руках одного человека. При отсутствии этого условия бывает совсем наоборот. Ибо многие глаза видят одну и ту же вещь в различных очертаниях и склонны смотреть в сторону своей собственной выгоды. Вот почему стрелки, которые не желают промахнуться, присматриваются, правда, обоими глазами, но прицеливаются лишь одним глазом. И вот почему большие демократические государства всегда держались не открытыми совещаниями их собраний, а или благодаря объединявшему их общему врагу, или популярностью какого-нибудь выдающегося человека среди них, или каким-нибудь тайным немногочисленным советом, или взаимной боязнью заговоров. Что же касается маленьких государств, как демократических, так и монархических, то никакая человеческая мудрость не может их сохранить дольше, чем продолжается взаимная зависть их могущественных соседей.
Глава XXVI
О гражданских законах
Под гражданскими законами я понимаю законы, которые люди обязаны соблюдать не как члены того или другого конкретного государства, а как члены государства вообще. Ибо частные законы надлежит знать тем, которые занимаются изучением законов различных стран, но гражданский закон вообще надлежит знать всякому человеку. Древнее право Рима называлось jus civile (гражданским правом) от слова civitas, означающего государство. И те страны, которые, перестав быть под властью Римской империи и управляться римским правом, удержали еще у себя из этого права ту часть, которую они считали для себя подходящей, называли эту часть, в отличие от своих собственных гражданских законов, гражданским правом. Но не об этом праве я собираюсь здесь говорить, ибо в мою задачу входит не показать, что такое закон здесь или там, а лишь показать, что такое закон вообще, подобно тому, как это делали Платон, Аристотель, Цицерон и разные другие мыслители, которые не занимались изучением права.
Прежде всего очевидно, что закон вообще не есть совет, а приказание, но не приказание любого человека другому, а лишь того, чье приказание адресовано тому, кто раньше обязался повиноваться ему. А в слове «гражданский закон» прибавляется лишь имя приказывающего, каковое есть persona civitatis, лицо государства.
В соответствии с этим я определяю гражданский закон следующим образом. Гражданским законом являются для каждого подданного те правила, которые государство устно, письменно или при помощи других достаточно ясных знаков своей воли предписало ему с тем, чтобы он пользовался ими для различения между правильным и неправильным, то есть между тем, что согласуется, и тем, что не согласуется с правилом.
В этом определении нет ничего, что не было бы с первого взгляда очевидно. Ибо всякий человек видит, что некоторые законы адресованы всем подданным вообще, некоторые – определенным провинциям, другие – определенным профессиям, а еще другие – определенным людям, и поэтому они являются законами для той группы людей, которой адресовано приказание, и ни для кого другого. Точно так же очевидно, что законы суть правила, определяющие, что справедливо и что несправедливо, ибо несправедливым считается лишь то, что противоречит какому-либо закону.
Очевидно также, что никто, кроме государства, не может издавать законов, ибо мы находимся в подданстве у одного лишь государства, и что приказания государства должны быть выражены достаточно ясными знаками, ибо иначе человек не может знать, чему он должен повиноваться. И поэтому все, что может быть выведено как необходимое следствие из этого определения, должно быть признано правильным. И вот я вывожу из него следующие заключения.
Законодателем во всех государствах является лишь суверен, будь то один человек, как в монархии, будь то собрание людей, как в демократии или аристократии. Ибо законодатель есть тот, кто издает закон. А одно лишь государство предписывает соблюдение тех правил, которые мы называем законом. Поэтому законодателем является государство. Но государство является личностью и способно что-либо делать только через своего представителя (то есть суверена), и поэтому единственным законодателем является суверен. По тому же основанию никто, кроме суверена, не может отменять изданного закона, ибо закон может быть отменен лишь другим законом, запрещающим привести первый в исполнение.
Суверен государства, будь то один человек, будь то собрание, не подчинен гражданским законам. В самом деле, обладая властью издавать и отменять законы, суверен может, если ему угодно, освободить себя от этого подчинения отменой стесняющих его законов и изданием новых, следовательно, он уже заранее свободен. Ибо свободен тот, кто может по желанию стать свободным. Да и не может человек быть обязанным по отношению к самому себе, так как тот, кто может обязать, может и освободить от своей обязанности, и поэтому иметь обязательства только по отношению к самому себе – значит не иметь никаких обязательств.
Когда долгая практика получает силу закона, то эта сила обусловлена не продолжительностью времени, а волей суверена, сказывающейся в его молчании (ибо молчание есть иногда знак согласия), и эта практика является законом лишь до тех пор, пока суверен молчит. И поэтому если суверен пожелает, чтобы какой-нибудь правовой вопрос решался не на основании его воли в данный момент, а на основании ранее изданных законов, то продолжительность практикующегося обычая не является основанием для умаления его права, и вопрос должен решаться на основании закона. Ибо с незапамятных времен учиняются бесконтрольно неправильные иски и выносятся бесконтрольно неправильные решения. И наши юристы считают законами лишь разумные обычаи и полагают, что дурные обычаи должны быть упразднены. Но судить о том, что разумно и что подлежит упразднению, есть дело того, кто составляет законы, то есть верховного собрания или монарха.
Естественный и гражданский законы совпадают по содержанию и имеют одинаковый объем. Ибо естественные законы, заключающиеся в беспристрастии, справедливости, признательности и других вытекающих отсюда моральных качествах, не являются в голом, естественном состоянии (как я уже указал на это раньше в конце гл. XV) законами в собственном смысле слова, а лишь качествами, располагающими людей к миру и повиновению. И лишь по установлении государства, а не раньше, они становятся действительно законом, ибо тогда они становятся приказаниями государства, а потому также и гражданскими законами, в силу того что верховная власть обязывает людей повиноваться им. Дело в том, что при различиях, имеющихся между отдельными людьми, только приказания государства могут установить, что есть беспристрастие, что есть справедливость и что есть добродетель, и сделать все эти правила поведения обязательными, а также только государство может установить наказание за их нарушение; и такие приказания являются поэтому гражданскими законами. Естественный закон является поэтому во всех государствах мира частью гражданского закона. В свою очередь, также гражданский закон является частью предписаний природы. Ибо справедливость, то есть соблюдение договоров и воздавание каждому его собственного, есть предписание естественного закона. Но каждый подданный государства обязался договором повиноваться гражданскому закону (договором граждан между собой, когда они собрались, чтобы выбрать общего представителя, или договором между каждым подданным и самим представителем, когда, покоренные мечом, они обещают повиновение, чтобы сохранить свою жизнь), и поэтому повиновение гражданскому закону является также частью естественного закона. Гражданский и естественный законы являются не различными видами, а различными частями права, из которых одна, писаная, часть называется гражданским, другая, неписаная, называется естественным законом. Впрочем, естественное право, то есть естественная свобода человека, может быть гражданским законом урезано и ограничено; больше того, такое ограничение является единственной целью издания законов, так как без такого ограничения не может быть никакого мира. И закон был принесен в мир не для какой другой цели, как только для того, чтобы ограничить свободу отдельных людей, с тем чтобы они могли не вредить, а помогать друг другу и объединиться против общего врага.
Если суверен какого-нибудь государства покорил народ, живший раньше под властью других писаных законов и продолжающий управляться этими же самыми законами и после покорения, то эти законы являются гражданскими законами победителя, а не законами покоренного государства. Ибо законодателем является не тот, чьей властью закон впервые издан, а тот, чьей волей он продолжает оставаться законом. И поэтому там, где в пределах одного государства имеются разные провинции и эти провинции имеют разные законы, называемые обыкновенно обычаями этих провинций, то мы должны понимать это не так, будто эти обычаи имеют свою силу благодаря своей древности, а лишь так, что они в древности были писаными законами или в другой форме объявленными постановлениями и уложениями суверенов этих провинций и что они и сейчас являются законами не потому, что они освящены временем, а в силу постановлений нынешних суверенов. Но если какой-нибудь неписаный закон одинаково практикуется во всех провинциях какого-нибудь государства и эта практика не приводит ни к каким несправедливостям, то такой закон является не чем иным, как естественным законом, одинаково обязывающим весь человеческий род.
Так как мы видим, что все законы, писаные и неписаные, имеют свой авторитет и свою силу от воли государства, то есть от воли его представителя, каковым является в монархии монарх, а в других государствах – верховное собрание, то приходится удивляться возникновению таких мнений, какие мы находим в разных государствах в трудах выдающихся юристов, делающих непосредственно или логически законодательную власть зависимой от частных людей или от подчиненных судей. Таково, например, положение, что право контроля над обычным правом (common law) принадлежит одному лишь парламенту, – положение, верное лишь там, где парламент обладает верховной властью и может быть созван и распущен исключительно по его собственному решению. Ибо, если кто-либо имеет право распускать его, тогда этот же имеет право контролировать его и, следовательно, контролировать его контроль. И если такого права ни у кого другого нет, то все право контроля над законами принадлежит не парламенту, а королю в парламенте. А если парламент там где он является сувереном, созвал бы из представителей подвластных ему провинций для обсуждения какого угодно вопроса самое многочисленное собрание и если бы это собрание состояло из самых умных людей, то все же никто не поверит, что такое собрание фактом своего созыва получило законодательную власть. Таково же также положение, что двумя мечами государства являются сила и юстиция, из которых первая находится в руках короля, а вторая передана в руки парламента, как будто могло бы существовать государство, в котором сила была бы в руках, которыми юстиция не имела бы власти управлять.
Наши юристы согласны в том, что закон никогда не может быть против разума и что законом является не буква (то есть всякая конструкция закона), а лишь то, что соответствует намерению законодателя. И это верно. Вопрос только в том, чьему разуму должен соответствовать закон. Этим разумом не может быть разум любого частного человека, ибо тогда законы так же часто противоречили бы друг другу, как и школы; этим разумом не может также быть (как думает Эд. Кок) искусственное совершенство разума, достигнутое долгим изучением, наблюдением и опытом. Ибо бывает так, что долгое изучение умножает и утверждает ошибочные мнения, а там, где люди строят на неправильных основаниях, то чем больше они строят, тем сильнее развал, а мнения и решения тех, которые изучают и наблюдают в течение одинакового времени и с одинаковым прилежанием, бывают и должны остаться противоречивыми. Поэтому делает закон не jurisprudentia (юриспруденция) или мудрость подчиненных судей, а разум и приказание нашего искусственного человека – государства. И так как государство является в лице своего представителя единым лицом, то нелегко могут возникнуть противоречия в законах, а если таковые возникают, то тот же разум способен путем интерпретации и изменений устранить их. Во всех судах судит суверен (являющийся лицом государства). Подчиненный судья обязан принять во внимание мотив, побудивший его суверена издать такой закон, с тем чтобы согласовать свое решение с ним. Но тогда это решение суверена. В противном случае это является его собственным, а потому и неправильным решением.
Из того, что закон есть приказание, а приказание состоит в изъявлении или проявлении в устной, письменной или какой-нибудь другой адекватной форме воли того, кто приказывает, мы можем заключить, что приказание государства является законом лишь для тех, кто способен понимать его. Для природных идиотов, детей и сумасшедших не существует закона в такой же мере, как и для зверей, и к ним неприменимы понятия справедливого и несправедливого, ибо они никогда не были способны заключать договор или понимать вытекающие из него последствия и, следовательно, никогда не обязывались считать своими действия какого-либо суверена, как это должны делать те, кто устанавливает для себя государство, и подобно тому, как не вменяется в вину несоблюдение законов людям, которых природа или случай лишили возможности познания законов вообще, не должно быть вменено в вину несоблюдение частного закона всякому человеку, которого какой-нибудь случай, происшедший не по его вине, лишил возможности познать его, ибо, собственно говоря, этот закон не является законом для него. В этом месте необходимо поэтому рассмотреть, какие доводы и признаки достаточны для того, чтобы при их помощи установить, каков закон, то есть какова воля суверена, как в монархиях, так и при других формах правления.
И прежде всего, если это закон, который обязывает всех подданных без исключения и который остается неписаным и неопубликованным в другой форме для сведения в этих местах, то это естественный закон. Ибо все, что люди обязаны знать как закон не на основании слов других людей, а каждый по собственному разуму, должно быть чем-то таким, что согласно с разумом всех людей, а таковым не может быть никакой иной закон, кроме естественного. Естественные законы поэтому не нуждаются ни в какой публикации и ни в каком прокламировании, ибо они содержатся в одном признанном всем светом положении, а именно: не делай по отношению к другому того, что ты считал бы неразумным со стороны другого по от ношению к тебе самому.
Во-вторых, если имеется закон, обязывающий лишь людей определенного звания и остающийся неопубликованным ни в устной, ни в письменной форме, то это также естественный закон, и он познается при посредстве тех же примет и признаков, которые отличают людей этого звания от других подданных. Ибо всякий закон, неписаный и неопубликованный в какой-нибудь форме тем, кто его делает законом, сможет быть познан лишь разумом того, кто обязан ему повиноваться, и является поэтому не только гражданским, но и естественным законом. Например, если суверен назначает какого-нибудь политического служителя, не давая ему никаких инструкций насчет того, что ему следует делать, то этот служитель обязан почерпнуть свои инструкции из предписаний разума. Так, если суверен назначает кого-нибудь судьей, то судья должен знать, что его решение должно соответствовать видам его суверена; а так как предполагается, что суверен всегда стремится к справедливости, судья обязывается естественным законом стремиться к тому же. А если суверен назначает кого-либо послом, последний (в отношении всего, что не содержится в его писаных инструкциях) должен руководствоваться тем, что разум подсказывает как наиболее способствующее интересам его суверена. И так в отношении всех других служителей верховной власти, политических и частных. Все эти инструкции естественного разума могут быть выражены одним словом верность, составляющим часть естественной справедливости.
За исключением естественных законов все другие законы имеют своим существенным признаком то, что они доводятся до сведения всякого человека, который будет обязан повиноваться им, посредством устного или письменного опубликования или при помощи какого-нибудь другого акта, заведомо исходящего от верховной власти. Ибо волю другого можно узнать или из его слов и действий, или путем догадки из его намерений и целей. А последние в личности государства всегда предполагаются согласными с разумом и справедливостью. И в древние времена, когда письменность еще не была в общем употреблении, законы часто составлялись в стихотворной форме, с тем чтобы простой народ, находя удовольствие в их распевании и декламировании, тем легче запоминал их. И по тому же основанию Соломон советует человеку навязать десять заповедей на свои десять перстов1. А Моисей приказывает народу Израиля учить детей своих тем законам, которые он дал им при возобновлении завета 2, говоря о них, когда они сидят в доме своем, и когда идут дорогой, и когда ложатся, и когда встают, и написать их на косяках и на воротах своих домов3 и собирать народ, мужей и жен, и детей, чтобы они слушали.
1 Притчи Соломоновы 7, 3.
2 Второзаконие 11, 19–20.
3 Второзаконие 31, 12.
Да и недостаточно того, чтобы законы были написаны и опубликованы. Необходимо еще, чтобы были при этом явные признаки того, что они исходят из воли суверена. Ибо частные люди, имеющие или воображающие, что имеют достаточно силы, чтобы обеспечить свои несправедливые намерения и осуществить свои честолюбивые замыслы, могут опубликовать в качестве законов то, что им угодно, без разрешения на то или против запрещения законодательной власти. Вот почему кроме объявления закона требуются еще достаточные указания на его автора и на его правовую силу. Автор, или законодатель, предполагается во всяком государстве известным, ибо этим законодателем является суверен, который был избран с согласия каждого и поэтому предполагается достаточно известным каждому. И хотя невежество и беззаботность людей в большинстве случаев таковы, что, когда стерлось воспоминание о первом установлении их государства, они уже больше не думают о том, чья власть обеспечивает им защиту против их врагов, покровительствует их промышленности и восстанавливает их в правах, когда они кем-либо нарушены, но так как стоит кому-нибудь лишь подумать, чтобы для него это перестало быть вопросом, то незнание того, где находится верховная власть, ни для кого не может служить оправданием. И предписанием естественного разума, а следовательно, очевидным естественным законом является, что никто не должен ослаблять этой власти, защиту которой против других он сам призывал или сознательно принял. Поэтому не знать того, кто является сувереном, может, что бы ни говорили дурные люди, человек лишь по своей собственной вине. Трудность состоит в установлении факта, что данный закон исходит от суверена. Трудность эта устраняется знанием государственных регистров, государственных советов, политических служителей и государственных печатей, при помощи которых законы в достаточной степени удостоверяются. Я говорю: удостоверяются, но не получают свою правовую силу, ибо удостоверение есть лишь свидетельство и запись. Правовая же сила закона состоит только в том, что он является приказанием суверена.
Если поэтому у человека возникает вопрос насчет правонарушения, имеющего отношение к естественному закону, то есть к общему праву, то достаточным удостоверением в этом индивидуальном случае является решение судьи, уполномоченного решать такого рода случаи. Ибо хотя совет человека, занятого изучением права, полезен для избежания споров, однако это лишь совет. Судья же, выслушав дело, должен сказать людям, что является законом. Но если возникает вопрос насчет правонарушения или преступления, имеющего отношение к писаному закону, всякий человек, прежде чем совершить такое правонарушение или преступление, может (если желает), справившись сам или через других в регистрах, быть достаточно информирован о том, является ли это правонарушением или нет. Мало того, всякий человек обязан в этих случаях делать это, ибо, когда человек сомневается, является ли акт, который он намерен совершить, законным или противозаконным, и он может при желании информироваться об этом, то совершение акта является противозаконным. Подобным же образом, если кто-либо считает себя обиженным в случае, определяемом писаным законом, с которым он может сам или через других ознакомиться, чтобы принять его к руководству, и он, не справившись с законом, подает жалобу, поступает неправильно и обнаруживает скорее расположение досаждать другим людям, чем добиваться своего права.
Если возникает у кого-либо сомнение насчет своей обязанности повиноваться какому-нибудь должностному лицу, то достаточным удостоверением полномочий последнего является, если сомневающийся видел его патент, снабженный государственной печатью, и он был прочитан ему или если сомневающийся при желании мог бы другим путем информироваться насчет возникшего у него вопроса. Ибо всякий человек обязан употребить всяческие усилия, чтобы ознакомиться с теми писаными законами, которые могут касаться его будущих действий.
Когда законодатель известен и законы доведены до всеобщего сведения письменным актом или внушением естественного разума, то все же требуется еще одно существенное условие для того, чтобы сделать эти законы обязательными. Ибо природа закона состоит не в его букве, а в его смысле, то есть в его аутентическом толковании (долженствующем выявить мысль законодателя). И поэтому толкование всех законов зависит от верховной власти, и толковать закон могут только те, кого назначит для этого суверен (которому одному подданный обязан повиновением). Ибо иначе ловкий толкователь мог бы придать закону смысл, противоположный смыслу, вложенному в закон сувереном, и таким образом законодателем оказался бы толкователь.
Все законы, писаные и неписаные, нуждаются в толковании. Ибо хотя неписаный естественный закон легко доступен пониманию тех, кто беспристрастно пользуется своим естественным разумом, и потому этот закон не допускает никакого оправдания для его нарушителей, однако так как имеются очень немногие люди или даже, может быть, не имеется никого, кто бы в некоторых случаях не был ослеплен себялюбием или какой-нибудь другой страстью, то естественный закон стал теперь самым темным из всех законов и поэтому больше всего нуждается в способных толкователях. Писаные законы в случае их краткости легко могут быть ошибочно поняты из-за различного значения одного или двух слов; если же они длинны, они тем более темны из-за различного значения многих слов. Таким образом писаные законы, формулированы ли они в немногих или во многих словах, не могут быть поняты без совершенного знания конечных причин, ради которых законы составлены, каковое знание имеет законодатель. Для законодателя поэтому не существует никаких неразрешимых узлов в законе. Ибо он эти узлы или развязывает путем нахождения цели закона, или же разрубает (как Александр своим мечом гордиев узел) их тем, что своей законодательной властью ставит желательные ему цели, чего никакой другой толкователь делать не может.
Толкование естественных законов в государстве не может быть почерпнуто из книг по моральной философии. Авторитет писателей, не имеющих полномочий государства, не делает их мнений законами, как бы правильны эти мнения ни были. То, что я писал в этом трактате о моральных качествах и об их необходимости для водворения и поддержания мира, не потому является в настоящее время законом, что это представляет собой очевидную истину, а потому, что это во всех государствах является частью гражданского права. Ибо хотя это основано на естественном разуме, однако законом это становится в силу постановления верховной власти. В противном случае было бы большим заблуждением называть естественные законы неписаными законами. И такими заблуждениями изобилуют многие опубликованные книги, в которых авторы так часто противоречат друг другу и самим себе.
Толкованием естественного закона является приговор судьи, назначенного верховной властью для разбора и решения споров, которые должны решаться на основе этого закона, и толкование это состоит в применении указанного закона к данному случаю. В самом деле, в акте правосудия судья лишь соображает, соответствует ли требование истца естественному разуму и требованию справедливости, и его постановление есть поэтому толкование естественного закона. И это толкование является аутентическим не потому, что оно есть частное решение судьи, а потому, что это решение выносится им на основании полномочий, данных ему сувереном, в силу чего оно становится решением суверена, которое для данного момента является законом для тяжущихся сторон.
Но так как нет ни подчиненного судьи, ни суверена, который не мог бы ошибиться в своем суждении о справедливости, то, если судья позже в другом аналогичном случае найдет более соответствующим справедливости вынести противоположное решение, он обязан такое решение вынести. Ибо ошибка человека не становится для него законом и не обязывает его упорствовать в ней. Такая ошибка (по тем же основаниям) не является законом также для других судей, хотя бы они присягой обязались следовать ей. Ибо хотя в отношении законов, которые могут быть изменены, неправильное решение, вынесенное на основании полномочий суверена и с ведома и одобрения последнего, становится новым законом для тех случаев, которые во всех своих деталях совпадают с тем случаем, по поводу которого вынесено указанное решение, однако в отношении неизменных законов, каковыми являются естественные, такие неправильные решения не становятся законами для всего последующего времени ни для того же самого судьи, ни для других судей. Государи сменяют друг друга, и один судья уходит, а другой приходит, мало того, небо и земля могут исчезнуть, но ни один пункт естественного закона не исчезнет, ибо естественный закон является вечным божественным законом. Поэтому все решения предыдущих судей, какие когда-либо были, не могут стать законом, если они противоречат естественному праву, и никакие судебные прецеденты не могут делать законным неразумное решение или освободить данного судью от заботы найти то, что справедливо (в подлежащем его решению случае), из принципов своего собственного естественного разума. Например, естественному закону противоречит наказывать невинного. А невинным является тот, кто оправдан судом и признан судьей невинным. И вот представим себе такой случай: человек обвинен в уголовном преступлении и, зная, что у него есть влиятельный и злобный враг и что судьи часто бывают подкупны и пристрастны, скрывается от суда из боязни исхода судебного процесса; через некоторое время человека этого арестовывают и предают суду, на суде он убедительно доказывает, что он невиновен в инкриминируемом ему преступлении, и получает оправдание, но тем не менее присуждается к конфискации имущества. В этом случае мы имеем перед собой осуждение заведомо невинного человека. Поэтому я говорю, что нет такого места на свете, где бы такое решение могло считаться толкованием естественного закона или могло бы получить силу закона вследствие того, что такие прецеденты имели место в прошлом. Ибо тот, кто судил так впервые, судил неправильно, и никакое несправедливое решение не может служить образцом для решений последующих судей. Писаный закон может запретить невинным людям скрываться от суда, и они могут быть наказаны за уклонение от суда. Но презумпировать виновность на основании бегства из боязни незаконного осуждения, после того как суд оправдал человека в инкриминируемом ему преступлении, противоречит природе презумпции, которой нет места после вынесенного судебного решения. Однако такую презумпцию допускает один великий знаток общего права (common law) Англии. Если невинный человек (говорит он) обвинен в каком-нибудь тяжком преступлении и из боязни осуждения скрывается, то хотя бы он был судом оправдан в возведенном на него обвинении, однако, если будет установлено, что он бежал вследствие этого обвинения, он, несмотря на свою невиновность, должен быть приговорен к конфискации всего его движимого и недвижимого имущества и к лишению имущественных прав и должностей. Ибо в от ношении конфискации закон не допускает никакого доказательства против юридической презумпции, основанной на его бегстве. Вы видите здесь, что невинный человек, оправданный судом, несмотря на свою невинность (если писаный закон не запретил ему бежать), установленную судебным решением, приговаривается к лишению всего его имущества на основании юридической презумпции. Если закон основывает на его бегстве презумпцию совершения им преступления (которое является уголовным), то приговор должен был бы соответствовать природе инкриминируемого преступления. Если же презумпция не касается факта совершения преступления, то за что же человек должен лишиться своего состояния? Такое положение поэтому не является законом Англии, и такой приговор основан не на презумпции закона, а на презумпции судей. И не соответствует также закону утверждение, будто не допускается доказательств против юридической презумпции. Напротив, отказ каких бы то ни было судей, верховных и подчиненных, выслушивать доказательства есть отказ в правосудии. Ибо хотя приговор таких судей и может оказаться справедливым, однако судьи, которые осуждают, не выслушивая представленных доказательств, являются неправедными судьями, и их презумпция есть лишь предубеждение, с которым ни один судья не должен приступить к решению дела, сколько бы ни было прецедентов и примеров, на которые он может ссылаться. Можно было бы привести много других примеров этого рода, где люди судят превратно благодаря тому, что доверяются прецедентам. Однако мы уже достаточно показали, что, хотя приговор судьи является законом для тяжущейся стороны, он не является законом ни для какого судьи, который сменит его в этой должности.
Точно таким же образом, когда встает вопрос о смысле писаного закона, толкователем закона является не тот, кто пишет комментарий к нему. Ибо комментарии еще более подвержены лжетолкованиям, чем текст, и поэтому нуждаются в других комментариях, так что конца не будет таким толкованиям. И поэтому если нет толкователя, который уполномочен на то сувереном и от толкований которого подчиненные судьи не имеют права отступить, то толкователями могут быть лишь обычные судьи таким же образом, как они являются таковыми в случаях неписаного закона, и их приговоры являются законами для тяжущихся сторон в их частном случае, но эти приговоры не обязывают других судей выносить такие приговоры в подобных случаях. Ибо судья может ошибаться в толковании даже писаных законов, но ошибка подчиненного судьи не может изменять закона, который является общим постановлением суверена.
В писаных законах люди обыкновенно различают между буквой закона и его смыслом, и если под буквой понимать все, что может быть выведено из одних слов, то это различение вполне правильно. Ибо почти все слова или сами по себе, или благодаря метафорическому их употреблению двусмысленны, и они могут быть использованы в различных смыслах, закон же имеет лишь один смысл. Однако, если под буквой закона подразумевать его буквальный смысл, тогда буква есть то же самое, что смысл или намерение закона. Ибо буквальный смысл есть тот смысл, который законодатель хотел вложить в букву закона. Намерение же законодателя всегда предполагается совпадающим с принципом справедливости, ибо думать иначе о суверене было бы большим оскорблением суверена со стороны судьи. Если поэтому слова закона не дают достаточных указаний для разумного решения, судья обязан дополнительно руководствоваться указаниями естественного разума, а если случай слишком сложен, то он обязан отсрочить свое решение до получения более широких полномочий. Например, писаный закон постановляет, что человек, который силой был выброшен из своего дома, должен быть силой обратно водворен в него. Но вот случается, что человек по халатности оставил свой дом пустым и по возвращении был силой не допущен в него, для какового случая нет специального закона. Очевидно, что этот случай содержится в том же самом законе, ибо иначе не было бы вообще возможности восстановить такого человека в его правах, каковое предположение противоречило бы намерению законодателя. Другой пример: слова закона повелевают судье выносить решение в соответствии со свидетельскими показаниями. Но вот человек ложно обвиняется в преступлении, причем сам судья видит, что это преступление совершено кем-нибудь другим, а не обвиняемым. В этом случае судья не может ни следовать букве закона и вынести обвинительный приговор, ни вынести оправдательный приговор против показаний свидетелей, ибо последнее было бы против буквы закона. Поэтому судья в таком случае обязан обращаться к суверену с просьбою назначить для этого дела другого судью, а его самого привлечь в качестве свидетеля. Таким образом неувязка, вытекающая из голой буквы писаного закона, может служить для судьи руководящей нитью при вскрытии намерения закона, что является лучшей интерпретацией закона. Однако никакое неудобство, вытекающее из буквы закона, не может узаконить решение, идущее вразрез с законом. Ибо всякий судья поставлен для того, чтобы решать, что есть право и что не есть право, а не для того, чтобы решать, что удобно и что неудобно для государства.
Качества, которыми должен обладать хороший толкователь закона, то есть хороший судья, не одинаковы с теми, которыми должен обладать адвокат, а именно: чтобы быть хорошим судьей, не требуется иметь юридическое образование. Ибо подобно тому, как судья обязан почерпнуть знание факта только из показаний свидетелей, точно так же он обязан почерпнуть знание закона лишь из уложений и постановлений суверена, на которые ссылаются тяжущиеся стороны или которые сообщены ему тем, кто имеет на это полномочия. И судья не имеет никакой необходимости заранее изучать то дело, которое подлежит его решению. Ибо то, что он должен сказать в отношении факта, он узнает от свидетелей, а то, что он должен сказать в отношении закона, он узнает в ходе процесса от тяжущихся сторон и от того, кто имеет право интерпретировать закон на месте. Лорды верхней палаты Англии были судьями, и очень много сложных дел слушалось и решалось ими, и, однако, немногие из них были очень сведущи в юриспруденции, и еще меньшее число их были профессиональными юристами, и хотя они и советовались с юристами, назначенными для присутствия в верхней палате с этой целью, однако лорды одни имели полномочие постановлять решение. Точно так же в обыкновенных судах являются судьями двенадцать человек из простонародья, которые постановляют решение не только в отношении факта, но также в отношении закона и выносят приговоры в пользу истца или в пользу ответчика, то есть являются судьями не только факта, но также и права; а там, где речь идет о преступлении, они не только решают, совершено ли было или не совершено было преступление, но также имело ли место убийство с заранее обдуманным намерением или непредумышленное убийство, измена, нападение и т. п., каковое решение уже касается юридической стороны дела. Но так как не предполагается, чтобы судьи сами были сведущи в законах, то при них находится юрист, уполномоченный информировать их о юридической стороне подлежащего их решению дела. Однако если судьи выносят решение, несогласное с мнением консультанта, то они не подлежат за это наказанию, если не будет доказано, что они вынесли это решение против своей совести или что они были подкуплены.
Качествами, делающими хорошего судью или хорошего толкователя законов, являются, во-первых, ясное понимание основного естественного закона, называемого справедливостью. Так как такое понимание зависит не от чтения книг, а от хорошего качества собственного естественного разума человека и от размышления, то такое понимание предполагается у тех людей, которые имеют наибольший досуг и наибольшую склонность размышлять о принципе справедливости. Вторым качеством является презрение к излишнему богатству и к чинам. Третьим качеством является способность отвлечься в своем суждении от всякой боязни, гнева, ненависти, любви и сострадания. Четвертым качеством – способность терпеливо и внимательно выслушивать и способность запоминать, обдумывать и применять слышанное.
Различение и разделение законов производились различным образом в зависимости от различия методов тех людей, которые писали о них. Ибо это разделение зависит не от природы самих законов, а от цели писателя, и обусловлено его методом. В инструкциях Юстиниана мы находим семь видов гражданских законов.
Эдикты, указы и распоряжения принцепса, то есть императора, так как в последнем была сосредоточена вся власть народа. Нечто подобное представляют собой указы королей Англии.
Постановления всего народа Рима (включая и сенат), принятые по поводу предложений, поставленных на голосование в народном собрании сенатом, – эти постановления были сначала законами в силу принадлежавшей народу верховной власти, и те из них, которые не были отменены императорами, остались законами в силу одобрения их императорской властью. Ибо не следует упускать из виду, что все законы, имеющие обязательную силу, являются законами в силу авторитета того, кто имеет власть отменять их. Нечто аналогичное этим законам представляют собой парламентские постановления в Англии.
Постановления народного собрания (без сената), принятые по поводу предложений, внесенных в народное собрание народными трибунами. Ибо те из этих постановлений, которые не были отменены императорами, остались законами в силу авторитета императорской власти. Нечто аналогичное этим законам представляют собой постановления палаты общин в Англии.
Senatus consulta, постановления сената, ибо, когда народ Рима стал слишком многочисленным и неудобно стало собирать его, императоры сочли целесообразным, чтобы люди сообразовались с сенатом, вместо того чтобы сообразоваться с народом. И эти постановления имеют некоторое сходство с постановлениями совета.
Эдикты преторов и (в некоторых случаях) эдилов, представлявших собой нечто вроде главных судей в судах Англии.
Responsa prudentum, то есть решения и мнения тех юристов, которым император дал право интерпретировать закон и давать ответы тем, которые будут спрашивать их совета по вопросам права, каковым ответам судьи постановлениями императора обязывались следовать в своих решениях. Эти решения и мнения представляли бы собой нечто подобное записям судебных решений в Англии, если бы английский закон обязывал других судей руководствоваться этими записями. Ибо коронные судьи Англии не являются в собственном смысле судьями, а юрисконсультами, которых консультируют по вопросам права судьи, то есть или лорды, или двенадцать присяжных.
Законами являются также не писаные обычаи, которые по своей природе являются имитацией закона при молчаливом согласии императора на их сохранение и в том случае, если они не противоречат естественному закону.
Законы еще разделяются на естественные и положительные. Естественными являются те, которые существовали от века, и они называются не только естественными, но и моральными законами. Эти законы имеют своим содержанием такие добродетели, как справедливость, беспристрастие и все те душевные качества, которые располагают человека к миру и милосердию, о чем я уже говорил в четырнадцатой и пятнадцатой главах.
Положительными являются те законы, которые не существовали от века, а были сделаны законами волей тех, которые имели верховную власть над другими, и они или существуют в письменной форме, или доведены до сведения людей в какой-нибудь другой форме, ясно выражающей волю законодателя.
Положительные законы, в свою очередь, разделяются на человеческие и божественные; и из человеческих положительных законов некоторые являются распределительными, другие – уголовными. Распределительными являются те, которые определяют права подданных, объявляя каждому человеку, каким путем он приобретает и сохраняет собственность на землю или на движимое имущество и право или свободу предъявлять иск, и эти законы адресованы всем подданным. Уголовными являются те, которые объявляют, какие наказания должны быть наложены на нарушителей закона, и эти законы адресованы должностным лицам и агентам исполнения. Ибо хотя всякий человек должен быть информирован о наказаниях, которые заранее установлены за его правонарушения, тем не менее повеление адресовано не преступнику (от которого нельзя ожидать, что он честно накажет самого себя), а должностным лицам, поставленным смотреть за тем, чтобы наказание было приведено в исполнение. И эти уголовные законы, так же как и распределительные законы, в большинстве случаев являются писаными законами, и они часто называются решениями. Ибо все законы являются общими решениями или постановлениями законодателя, точно так же как всякое частное судебное решение является законом для того, чье дело разбиралось.
Божественными положительными законами (ибо что касается естественных законов, то все они, будучи вечны и универсальны, божественны) являются те, которые, будучи заповедями Бога (не предвечными, не универсально адресованными всем людям, а исключительно определенному народу или определенным лицам), объявлены в качестве законов людьми, уполномоченными Богом провозгласить их. Однако по каким признакам можно узнать, что человек, объявляющий, каковы положительные законы Бога, имеет на то полномочия от Бога? Бог может сверхъестественным путем приказать человеку возвестить законы другим людям. Но так как с сущностью закона связано, что тот, кто должен будет ему повиноваться, должен быть уверен в полномочиях того, кто его объявляет, а в полномочиях, данных Богом, мы естественным путем удостовериться не можем, то спрашивается: как м оже т человек без сверхъестественного откровения быть уверенным в откровении, полученном тем, кто возвещает законы, и как может он быть обязанным повиноваться этим законам? Что касается первого вопроса, а именно вопроса о том, как может человек без откровения, полученного им самим, удостовериться в откровении, полученном другим, то это явно невозможно. Ибо хотя человека могут побудить верить в такое откровение чудеса, творимые на его глазах тем человеком, или необычайная святость жизни последнего, или его необычайная мудрость, необычайная удача во всех его делах как признак необычайной милости Бога к этому человеку, однако это не является достоверным свидетельством специального откровения. Чудеса суть непостижимые вещи, но то, что непостижимо для одного, может быть постижимо для другого. Святость может быть притворной, а видимые удачи в этом мире Бог чаще всего посылает обычным и естественным путем. И поэтому ни один человек не может путем естественного разума безошибочно знать, что другой имел сверхъестественное откровение божественной воли. Человек может лишь верить в это, причем его вера будет сильнее или слабее в зависимости от большей или меньшей доказательности этих признаков.
Но что касается второго вопроса, а именно как может человек быть обязанным повиноваться указанным законам, то на него нетрудно ответить. Ибо если возвещенный закон не идет вразрез с естественным законом (который, несомненно, является божественным законом) и человек берет на себя повиноваться ему, то этим своим собственным актом он обязывается, обязывается, говорю я, повиноваться ему, но не обязывается верить в него, ибо вера и тайные помышления человека не подчиняются приказаниям, а внушаются Богом естественным или сверхъестественным путем. Вера в сверхъестественный закон не есть исполнение этого закона, а лишь согласие с ним, и эта вера не является с нашей стороны исполнением долга по отношению к Богу, а даром, который Бог свободно дает тому, кому ему угодно, точно так же как безверие не есть нарушение какого-нибудь божественного закона, а отклонение их всех, за исключением естественных законов. Однако то, что я говорю, станет яснее, если я подкреплю это примерами и свидетельством Священного Писания. Завет, поставленный Богом с Авраамом (сверхъестественным путем), был таков: сей есть завет Мой, который ты должен соблюдать между Мной и между тобой и между потомками твоими после тебя. Потомки Авраама не имели этого откровения, да и не существовали еще, и однако же они являются участниками завета и обязаны повиноваться тому, что Авраам объявит им в качестве божественного закона, что могло быть обусловлено лишь их обязанностью повиноваться своим родителям, которые (если они не подвластны никакой другой земной власти, как в данном случае Авраам) имеют верховную власть над своими детьми и слугами. Опять-таки, когда Бог говорит Аврааму, в тебе благословятся все народы земли, ибо Я знаю, что ты заповедуешь сынам твоим и дому твоему после тебя ходить путем Господним, творя правду и суд, то ясно, что повиновение членов его семьи, не имевших откровения, было обусловлено их предыдущим обязательством повиноваться своему суверену. На гору Синай взошел один лишь Моисей, чтобы говорить с Богом. Народу было под страхом смерти запрещено приблизиться к этому месту, и однако же все сыны Израилевы были обязаны повиноваться, тому, что Моисей объявит им в качестве божественного закона. На каком же другом основании, если не на основании их собственной покорности, сыны Израиля говорят Моисею: говори ты нам, и мы будем слушать тебя, но пусть не говорит нам Бог, дабы нам не умереть. Эти две цитаты ясно показывают, что в состоянии государственности подданный, не имеющий лично ясного и несомненного откровения в отношении воли Бога, обязан повиноваться в качестве таковой постановлениям государства. Ибо если бы людям была предоставлена свобода считать божественными заповедями свои собственные сны и фантазии или сны и фантазии частных людей, то едва ли нашлись бы два человека, согласных между собой насчет того, что является Божьей заповедью, и, однако, в силу сравнения с этими воображаемыми заповедями всякий человек пренебрежительно относился бы к постановлениям государства. Я поэтому заключаю, что во всех вещах, не противоречащих нравственному закону (то есть естественному закону), все подданные обязаны повиноваться как божественным законам тому, что будет объявлено таковыми государственными законами. И это подсказывается также здравым смыслом всякого человека. Ибо все, что не идет против естественного закона, может быть объявлено законом от имени тех, которые обладают верховной властью, и поэтому нет никакого основания, в силу которого люди менее обязывались бы этим самым, когда это объявлено от имени Бога. Да и нет такого места на свете, где бы людям разрешалось признавать другие заповеди Божьи, чем те, которые провозглашены таковыми государством. Христианские государства наказывают отступников от христианской религии, а все другие государства наказывают тех, кто основывает запрещенную ими религию. Ибо во всем, что не регулировано государством, справедливость (которая есть естественный закон и поэтому предвечный закон Бога) требует, чтобы всякий человек мог одинаково пользоваться свободой.
Имеется еще другое разделение законов на основные и неосновные. Но я ни у одного автора не мог найти определение того, что основной закон означает. Тем не менее такое разделение может иметь разумный смысл. В самом деле, основным законом в каждом государстве является тот закон, по упразднении которого государство, подобно зданию, фундамент которого разрушен, должно рухнуть и окончательно распасться. Основным законом поэтому является тот закон, на основании которого подданные обязаны поддерживать всякую власть, которая дана суверену-монарху или верховному собранию и без которой государство не может устоять. Таковы, например, право объявления войны и заключения мира, судебная власть, право назначения должностных лиц и право суверена делать все, что он сочтет необходимым в интересах государства. Неосновным является тот закон, упразднение которого не влечет за собой распада государства, каковы, например, законы в отношении тяжб между одним подданным и другим. И этим достаточно сказано о разделении законов.
Я нахожу даже у самых ученых авторов, что они употребляют для обозначения одной и той же вещи безразлично слова lex civilis и jus civile, т. e. гражданский закон и гражданское право, чего, однако, не следует делать. Ибо право есть свобода, именно та свобода, которую оставляет нам гражданский закон. Гражданский же закон есть обязательство и отнимает у нас ту свободу, которую предоставляет нам естественный закон. Природа дает всякому человеку право обеспечить свою безопасность своей собственной физической силой и в целях предупреждения нападения на себя напасть на всякого подозрительного соседа. Гражданский же закон лишает нас этой свободы во всех тех случаях, где защита закона обеспечивает безопасность. Таким образом, между lex и jus существует такая же разница, как между обязательством и свободой.
Точно так же употребляются в одинаковом смысле слова законы и хартии. Однако хартии суть дары суверена, и они не законы, а изъятия из закона. Формула закона есть jubeo injungo – я повелеваю, я пред писываю; формула же хартии есть dedi, соncessi – я дал, я пожаловал, но то, что даруется или жалуется человеку, не навязывается ему законом. Закон может быть издан, с тем чтобы обязать им всех подданных государства; свобода же, или хартия, дается одному человеку или некоторой части народа. Ибо сказать, что весь народ государства пользуется свободой в отношении какого-нибудь пункта, – то же самое, что сказать, что в отношении этого пункта не было издано никакого закона или если такой закон был издан, то он ныне отменен.
Глава XXVII
О преступлениях, оправданиях и о смягчающих вину обстоятельствах
Грехом является не только нарушение какого-нибудь закона, но также всякое выражение презрения к законодателю. Ибо такое презрение есть нарушение всех его законов сразу. И поэтому грех может состоять не только в совершении поступка или в высказывании слов, запрещенных законом, или в невыполнении того, что повелевает закон, но также в намерении нарушить закон. Ибо намерение нарушить закон есть в некоторой степени презрение к тому, кто имеет право требовать его исполнения. Тешить себя воображаемым обладанием имуществом другого человека, его слугами или женой, без намерения отнять их у него силой или хитростью, не есть нарушение закона, гласящего: не пожелай; точно так же не является грехом, если человек испытывает удовольствие, воображая себе или мечтая о смерти того, от чьей жизни он может ожидать лишь вред и огорчение себе, а грехом является лишь решение совершить какой-нибудь акт, клонящийся к осуществлению такой мечты. Ибо тешиться воображением того, что доставило бы удовольствие, если бы оно было реально, есть страсть, настолько свойственная природе как человека, так и всякого другого живого существа, что считать это грехом значило бы считать грехом самое существование в качестве человека. В силу этих соображений я считаю слишком строгими по отношению к самим себе и к другим тех, которые утверждают, что первые движения души (хотя и подавленные богобоязнью) являются грехом. Однако я признаю, что лучше ошибаться в этом направлении, чем ошибаться в противоположном смысле.
Преступление есть грех, заключающийся в совершении (делом и словом) того, что запрещено законом, или в неисполнении того, что закон повелевает. Так что всякое преступление есть грех, но не всякий грех есть преступление. Питать намерение украсть что-нибудь или убить кого-нибудь есть грех, хотя бы это намерение не было выявлено никогда ни словом, ни делом, ибо Бог, видящий мысли человека, может вменить ему это в вину. Однако до тех пор, пока такое намерение не обнаружилось каким-нибудь актом или словом, при наличии которых намерение могло бы стать объектом разбора земного судьи, оно не носит названия преступления. Подобное различие делали и греки, различая между άμάρτημα и έγχημα или αίτία, из которых первое (которое переводится словом грех) обозначает всякое отклонение от закона, а два последних (которые переводятся словом преступление) обозначают лишь такой грех, в котором один человек может обвинять другого. Но в намерениях, не выявившихся никогда в каком-либо внешнем акте, никто никого не может обвинить. Точно так же и римляне обозначают словом peccatum, означающим грех, всякого рода отклонение от закона, но под словом crimen (которое они производят от слова cerno, означающего видеть, обнаруживать) они подразумевают лишь такие грехи, которые могут быть разоблачены перед судьей и поэтому не являются одними намерениями.
Из обрисованного отношения греха к закону и преступления к гражданскому закону может быть выведено следующее заключение. Во-первых, что там, где прекращается закон, прекращается и грех. Однако так как естественный закон вечен, то нарушение договора, неблагодарность и высокомерие и все акты, идущие вразрез с каким-нибудь моральным принципом, никогда не могут перестать быть грехом. Во-вторых, что с упразднением гражданского закона перестают существовать преступления. Действительно, так как с упразднением гражданского закона остаются лишь естественные законы, то ни один человек не может обвинить в чем-либо другого человека. Ибо в этом случае всякий является своим собственным судьей и может быть обвинен лишь своей собственной совестью и признать себя оправданным на основании чистоты своих намерений. Если поэтому его намерение честно, его поступок не является грехом. В противном случае его поступок – грех, но не преступление. В-третьих, что, если перестает существовать верховная власть, перестают существовать и преступления. Ибо там, где нет такой власти, нет и защиты закона, и поэтому всякий имеет право защищать себя собственными силами. Ибо нельзя предположить, чтобы кто-либо при установлении верховной власти отрекся от своего права на сохранение своей жизни, ради сохранения которой всякая верховная власть установлена. Но это относится лишь к тем, которые не участвовали в свержении власти, оказывавшей им защиту. Ибо такое свержение было с самого начала преступлением.
Источником всякого преступления является или недостаток понимания, или какая-нибудь ошибка в рассуждении, или неожиданная сила страстей. Недостаток понимания есть незнание. Ошибка в рассуждении есть ошибочное мнение. Незнание опять-таки может быть троякого рода: незнание закона, незнание суверена, незнание наказания. Незнание естественного закона ни для кого не может служить оправданием. Ибо предполагается, что всякий человек со зрелым умом знает, что он не должен делать по отношению к другому то, чего он не хотел бы, чтобы было сделано по отношению к нему. Поэтому, в какую бы страну человек ни пришел, он совершает преступление, если он делает что-либо противное законам этой страны. Если человек приезжает в нашу страну из Индии и убеждает у нас людей принять новую религию или учит их чему-либо, ведущему к неповиновению законам нашей страны, то, как бы человек ни был убежден в истинности своего учения, он совершает преступление и может быть по всей справедливости наказан за него, и это не потому только, что его учение ложно, но также и потому, что он совершает нечто, чего он не одобрил бы в другом, а именно в том, кто прибыл бы от нас в его страну и там пытался бы изменить религию этой страны. Однако незнание гражданского закона может служить оправданием для человека в чужой стране, пока этот закон ему не объявлен, ибо до того гражданский закон не может иметь для него обязательной силы.
Точно таким же образом, если гражданский закон объявлен в стране в такой ясной форме, чтобы при желании каждый мог знать его, и сам поступок не противоречит естественному закону, то незнание гражданского закона является достаточным оправданием. В других случаях незнание гражданского закона не служит оправданием.
Если человек не знает, кому принадлежит верховная власть в той стране, где он обычно живет, то это не служит ему оправданием, ибо он обязан был знать ту власть, защитой которой он пользуется здесь.
Незнание наказания там, где закон опубликован, никому не служит оправданием. Ибо, нарушая закон, который при отсутствии боязни наказания был бы не законом, а пустым словом, человек тем самым приемлет наказание, хотя он не знает, каково оно, так как всякий, добровольно совершающий какое-нибудь действие, приемлет и все заведомо вытекающие из этого действия последствия. Наказание же является заведомым последствием нарушения законов во всех государствах. Так что, если это наказание определено уже законом, правонарушитель подлежит этому наказанию; если же наказание за данное правонарушение не установлено законом, правонарушитель подлежит произвольному наказанию. Ибо справедливо, чтобы тот, кто совершает правонарушение, повинуясь только одной своей собственной воле, был подвергнут наказанию, зависящему лишь от воли того, чей закон при этом нарушен.
Если же наказание указано в этом законе рядом с преступлением или это наказание обычно применялось в подобных случаях, то преступник не может быть подвергнут более суровому наказанию. Ибо если заведомое наказание недостаточно сильно, чтобы удержать людей от совершения правонарушения, то такое наказание является подстрекательством к правонарушению, так как, взвешивая выгоды, проистекающие для них от правонарушения, против зла, связанного с наказанием, люди по естественной необходимости выбирают то, что им представляется наиболее выгодным. Вот почему, если они подвергаются более сильному наказанию, чем то, которое определено законом, или чем то, которому подверглись другие люди за подобные преступления, выходит, что закон их ввел в искушение и обманул их.
Закон, изданный после совершения действия, не делает это действие преступным. Ибо если это действие есть нарушение естественного закона, то закон существовал до его совершения, положительный же закон не может быть известен до его издания и, следовательно, не может иметь обязательной силы. Если же закон, запрещающий указанное действие, издан до совершения последнего, но полагающееся за него наказание было установлено после его совершения, то правонарушитель подлежит наказанию, установленному по совершении его действия, если только до этого не было установлено законом или практикой меньшее наказание за это же правонарушение. Основания для нашего последнего утверждения были изложены выше.
Неправильные рассуждения (то есть заблуждения), делающие людей склонными нарушать законы, бывают троякого рода. Во-первых, рассуждения, в основу которых положены ложные принципы. Так, например, когда люди на основании тех фактов, что во всех местах и во все века незаконные деяния легализовались благодаря силе и победам тех, которые совершали их; что власть имущие люди часто разрывали паутину законов их страны, причем преступниками считались лишь наиболее слабые из нарушителей законов, не имевшие успеха в своих противозаконных начинаниях, – когда люди на основании таких фактов устанавливают следующие принципы и предпосылки: что справедливость есть лишь пустой звук, что все, что человек может добыть своими рвением и отвагой, ему принадлежит, что практика всех народов не может быть несправедливой, что примеры прежних времен является достаточным основанием для того, чтобы поступать так и впредь, и многое другое в этом роде. При признании таких принципов никакое деяние само по себе не может быть преступлением. Но должно стать таковым в зависимости не от закона, а от успеха того, кто его совершает, а одно и то же деяние может быть нравственно положительным или отрицательным в зависимости от воли судьбы, так что то, что Марий сделает преступлением, Сулла превратит в заслугу, а Цезарь (при наличии тех же самых законов) снова обратит это в преступление – к беспрестанному нарушению мира в государстве.
Во-вторых, неправильные рассуждения, внушаемые лжеучителями, которые или неправильно истолковывают естественные законы, придавая им смысл, противоречащий гражданскому закону, или выдают за законы такие доктрины собственного измышления или традиции прежних времен, которые несовместимы с обязанностью подданного.
В-третьих, неправильные рассуждения, представляющие собой неправильные заключения из правильных принципов, что обычно встречается у людей, поспешных в выведении заключений и в принятии практических решений. Таковы те люди, которые, с одной стороны, слишком высокого мнения о своих умственных способностях, а с другой стороны, полагают, что вещи этого рода не требуют времени и изучения, а лишь обыкновенного опыта и здравого смысла, чего ни один человек не считает себя лишенным, а между тем познание правомерного и неправомерного очень трудно, и никто не должен претендовать на такое знание без долгого и интенсивного изучения этих вопросов. И из этих неправильных рассуждений ни одно не может служить основанием для оправдания в преступлении человека (хотя некоторые из них могут служить смягчающим вину обстоятельством), претендующего на управление своими собственными частными делами, и еще меньше для того, кто занимает государственный пост, ибо все такие люди претендуют на ту разумность, на отсутствие которой они ссылались бы как на основание для своего оправдания.
Одной из страстей, которые чаще всего являются причиной преступления, является тщеславие или глупая переоценка своей собственной личности, как будто бы разница в ценности между людьми является результатом их ума, или богатства, или крови, или какого-нибудь другого естественного качества, а не зависит от воли тех, кто обладает верховной властью. Тщеславие порождает у соответствующих людей ту презумпцию, что наказания, установленные законами и распространяющиеся обыкновенно на всех подданных, не должны быть применены к ним с той же строгостью, с которой они применяются к бедным, темным и простым людям, общее имя которых чернь.
Поэтому обыкновенно бывает так, что люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги или за другие формы вознаграждения.
А люди, которые имеют много могущественных родственников, или популярные люди, завоевавшие себе высокую репутацию среди толпы, осмеливаются нарушать законы в надежде, что им удастся оказать давление на ту власть, которой надлежит заботиться о приведении законов в исполнение.
А люди, имеющие высокое и ложное мнение о своей собственной мудрости, берут на себя смелость порицать действия властей и ставить под знак вопроса их авторитет и своими публичными выступлениями опрокинуть законы, с тем чтобы преступлением считалось лишь то, что им выгодно считать таковым. Эти же самые люди бывают иногда склонны к таким преступлениям, которые состоят в коварстве и в обмане своих соседей, так как они полагают, что их помыслы слишком тонки, чтобы в них можно было проникнуть. Это, говорю я, является следствием их ложной презумпции о своей собственной мудрости. Ибо из первых зачинщиков смуты в государстве (которая никогда не обходится без гражданской войны) очень немногие остаются жить достаточно долго, чтобы видеть осуществление своих целей, так что благо, вытекающее из этих преступлений, достается потомству и таким людям, которые меньше всего пожелали бы его, что доказывает, что эти зачинщики не были так мудры, как они полагали. А те, которые обманывают в надежде на то, что их обманов не заметят, обманывают обыкновенно себя (ибо та тьма, которой они считают себя окутанными, есть лишь их собственная слепота), и они не более разумны, чем дети, которые считают все скрытым, когда они закрыли свои глаза.
И все тщеславные люди, как общее правило (если только они не являются одновременно и робкими), склонны к взрывам гнева, ибо они более склонны, чем другие, истолковывать обычную свободу выражений в разговорах как проявление пренебрежения к ним. И очень мало найдется таких преступлений, которые не имели бы своим источником гнев.
А что касается тех преступлений, к которым способны привести такие страсти, как ненависть, сладострастие, честолюбие и корыстолюбие, то они настолько очевидны всякому человеку на основании его собственного опыта и размышления, что об этом нет нужды говорить; заметим лишь, что эти страсти настолько присущи природе как человека, так и всех других живых существ, что их последствия могут быть устранены лишь неизменным напряжением мыслительных способностей или неизменной строгостью наказания за них. Ибо то, что человек ненавидит, причиняет ему непрерывное и неизбежное беспокойство, в силу чего человек должен или вооружаться долготерпением, или освободить себя от власти этого беспокойства устранением его причины. Выполнение первого условия трудно, выполнение второго во многих случаях невозможно без нарушения какого-либо закона. Честолюбие и корыстолюбие являются также страстями, которые беспрестанно давят на человека, между тем как разум не всегда приходит человеку на помощь, чтобы оказать им сопротивление. И поэтому, когда у человека появляется надежда на безнаказанность, тогда сказываются последствия этих страстей. А что касается сладострастия, то эта страсть вместо продолжительности обладает силой, достаточной для того, чтобы перевесить боязнь легких или неизвестных наказаний.
Из всех страстей менее всего располагает человека к нарушению закона страх. Больше того, страх (если отвлечься от благородных натур) является единственной страстью, заставляющей людей соблюдать законы (в тех случаях, когда их нарушение обещает человеку выгоду или удовольствие). И все же во многих случаях преступления могут быть совершены под влиянием страха.
В самом деле, не всякий страх оправдывает тот акт, который он порождает, а лишь страх физического повреждения, который мы называем физическим страхом, и лишь в том случае, когда человек не видит другого средства освободиться от этого страха помимо действия. Человек подвергается нападению, боится быть убитым и не видит иного пути, чтобы избегнуть смерти, как нанесение раны тому, кто на него нападает. И вот, если в этом случае человек ранил нападающего на смерть, то он не совершил этим преступления, ибо нет такой презумпции, чтобы кто-либо фактом установления государства отрекся от своего права защищать свою жизнь и члены своего тела в тех случаях, когда закон не может во время прийти ему на помощь. Но если я убью человека, потому что из его действий или из его угроз я заключаю, что он убьет меня, когда сможет (между тем как я имею достаточно времени и средств, чтобы призвать защиту верховной власти), то это преступление. Другой случай. Человек слышит по своему адресу несколько обидных слов или подвергается маленькой обиде (за которые законодатели не установили никакого наказания, не считая достойным человека здравого ума обращать на них внимание), и он боится, что, оставив без отомщения эти маленькие обиды, он навлечет на себя презрение и, следовательно, будет подвергаться подобным обидам и со стороны других, и вот, чтобы избегнуть этого, он нарушает закон и, чтобы другим не повадно было, пускает в ход террор частной мести. Этот человек совершает преступление. Ибо повреждение в этом случае было не физическое, а фантастическое и настолько легкое, что светский человек и такой, который уверен в своем мужестве, не может на него обращать внимание (хотя в силу обычая, введенного несколько лет назад в этом уголке мира, такие мелкие обиды сделались чувствительными для молодых и пустых людей). Точно так же человек может бояться духов благодаря ли собственному суеверию или благодаря доверию, которое внушают ему рассказы о странных снах и видениях других людей, и при этом ему может быть внушена вера в то, что эти духи причинят ему вред, если он совершит то, что предписывается законом, или если он не совершит того, что запрещается законом. И вот, если этот человек совершил нарушение закона в том или другом направлении, то это нарушение не может быть оправдано страхом, а является преступлением. В самом деле, сны (как я показал это выше во второй главе) являются по природе своей лишь представлениями, оставшимися у спящего от чувственных восприятий, полученных им раньше наяву. А когда человек в силу какого-либо обстоятельства не уверен в том, что он спал, то сны представляются ему реальными видениями. Поэтому тот, кто позволяет себе нарушить законы на основании своего собственного или чужого сна, или на основании мнимого видения, или на основании иного представления о власти невидимых духов, чем то, которое разрешено государством, тот отвергает естественный закон, что уже является определенным преступлением, и следует призракам воображения своего или другого частного человека, причем призракам, относительно которых он никогда не может знать, означают ли они что-нибудь или нет, так же как он не может знать, говорит ли правду или лжет тот, кто рассказывает ему свои сны. И если бы всякому частному человеку была предоставлена свобода действовать так (а если бы хоть один человек имел эту свободу, то она в силу естественного закона должна была бы быть предоставлена всякому), никого нельзя было бы заставить соблюдать законы, и все государства были бы доведены таким образом до распада.
Из этого различия источников преступлений вытекает, что не все преступления бывают одинаковой пробы (как утверждали это древние стоики). Могут иметь место не только оправдание, при котором то, что казалось преступлением, оказывается совсем не таковым, но также и смягчающие вину обстоятельства, благодаря которым преступление, казавшееся большим, становится меньше. Ибо хотя все преступления заслуживают одинаково имени беззакония подобно тому, как всякое отклонение от прямой линии одинаково заслуживает имени кривизны, что было правильно замечено стоиками, однако из этого не следует, что все преступления являются в одинаковой степени беззакониями, так же как из понятия кривизны не следует, что все кривые линии являются в одинаковой мере кривыми. Последнее именно проглядели стоики, считавшие одинаково большим преступлением убить курицу против закона, как совершить отцеубийство.
Целиком оправдывает действие и отнимает у него характер преступления лишь то, что одновременно лишает закон обязательной силы, ибо действие, совершенное против закона, если тот, кто совершил его, обязан повиноваться данному закону, есть не что иное, как преступление.
Отсутствие всякой возможности знать закон служит основанием для полного оправдания. Ибо закон, знание которого для человека невозможно, не имеет обязательной силы для этого человека. Но недостаточное усилие со стороны человека познать закон не должно быть рассматриваемо как отсутствие возможности, и человек, считающий себя достаточно разумным, чтобы быть в состоянии управлять своими собственными делами, не может считаться лишенным возможности знать естественные законы. Ибо эти законы познаются тем разумом, на который он претендует. Только детям и сумасшедшим не вменяются в вину преступления против естественного закона.
Когда человек не по своей вине находится в плену или во власти врага (а он тогда во власти врага, когда во власти последнего находятся его личность или его средства существования), тогда закон теряет по отношению к нему всякую обязательную силу, ибо он вынужден повиноваться врагу или умереть, и, следовательно, такое повиновение не есть преступление, ибо никто не обязан (при отсутствии защиты закона) не защищать себя всеми доступными ему средствами.
Если человек под страхом смерти принуждается совершать что-нибудь против закона, то он совершенно не виновен, ибо никто не обязан отказаться от самосохранения. И если даже мы предположили бы, что такой закон является обязательным, то человек все же рассуждал бы так: если я не сделаю этого, я умру немедленно, если же я это сделаю, я умру некоторое время спустя, следовательно, делая это, я выигрываю некоторое время для жизни. Природа поэтому принуждает его это делать.
Если человек не имеет съестных припасов или каких-нибудь других необходимых для жизни вещей и он может сохранить себя лишь посредством того противозаконного действия, которое он совершает; так, например, если при наличии большого голода он грабит или крадет съестные припасы, которые он не может получить за деньги или в качестве милостыни, или если для защиты своей жизни человек отнимает у другого его меч, то это нельзя вменять ему в вину по основаниям, указанным раньше.
Кроме того, незакономерные действия, совершенные под влиянием другого человека, не являются преступлением благодаря этому влиянию по отношению к подстрекателю, ибо никто не может вменять в вину свои собственные действия другому, который является лишь его инструментом, но это противозаконное действие остается преступлением по отношению к третьему лицу, пострадавшему от этого действия, ибо в отношении нарушения закона оба, как подстрекатель, так и исполнитель, являются преступниками. Отсюда следует, что, если человек или собрание, имеющие верховную власть, приказывают человеку совершить нечто, нарушающее прежде изданный закон, то это действие не может быть вменено в вину исполнителю. Ибо суверен не может по праву осудить это действие, так как сам суверен является его виновником. А то, что не может быть по праву осуждено сувереном, не может быть по праву наказано кем-либо другим. Кроме того, когда суверен повелевает совершить что-либо, противоречащее его прежнему собственному закону, то это повеление является упразднением закона по отношению к данному частному факту.
Если человек или собрание, имеющие верховную власть, отрекаются от какого-нибудь существенного для верховной власти права, благодаря чему подданные получают свободу, несовместимую с существованием верховной власти, то есть с самым существованием государства, и подданный на основании этой пожалованной свободы отказывает в повиновении суверену в чем либо, противоречащем этой свободе, то этот отказ является, тем не менее, грехом и нарушением верноподданнического долга. Ибо подданный обязан знать, что является несовместимым с верховной властью, так как эта верховная власть была учреждена сего собственного согласия и ради его защиты, и что такая свобода, которая несовместима с этой верховной властью, могла быть пожалована лишь вследствие непредвидения ее дурных последствий. Если же подданный не только не повинуется, но и оказывает сопротивление должностному лицу при проведении последним указанного повеления в жизнь, тогда это сопротивление является уже преступлением, ибо подданный мог добиваться своего права жалобой (без нарушения мира).
Преступление имеет различные степени, которые измеряются, во-первых, зловредностью источника или причины, во-вторых, заразительностью примера, в-третьих, вредностью последствий, в-четвертых, обстоятельствами времени, места и лиц.
Одно и то же противозаконное действие является большим преступлением, когда оно проистекает из того, что человек, полагаясь на свою силу, богатство или друзей, надеялся оказать сопротивление агентам исполнения закона, чем тогда, когда оно проистекает из того, что правонарушитель надеялся не быть открытым или скрыться от преследования закона бегством. Ибо надежда на избежание наказания путем силы есть корень, из которого вырастает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам, между тем как в последнем случае понимание опасности, побуждающее человека к бегству, делает его более послушным в будущем. Преступление, совершенное при полном сознании правонарушителя, что совершаемое им действие есть преступление, является большим преступлением, чем тогда, когда оно проистекает из ложного убеждения в закономерности действия. Ибо тот, кто совершает противозаконное действие в полном сознании его противозаконности, полагается на свою физическую силу или на какую-нибудь другую силу, что придает ему смелость совершать такие преступления и в будущем, между тем как тот, кто совершает преступление по ошибке, убедившись в своей ошибке, становится законопослушным.
Тот, чья ошибка проистекает из доверия к авторитету учителя или уполномоченного государством толкователя закона, менее виновен, чем тот, чья ошибка проистекает из непоколебимой уверенности в правильности собственных принципов и рассуждений, ибо тому, чему учит человек, уполномоченный на то государством, учит само государство, и мнение такого учителя имеет сходство с законом, поэтому авторитет такого учителя или толкователя закона является основанием для полного оправдания во всех преступлениях, которые не содержат в себе отрицания верховной власти и не являются нарушением явного закона, между тем как тот, кто руководится в своих действиях своими собственными мнениями, стоит или падает в зависимости от правильности или ошибочности этих мнений.
То же противозаконное действие является большим преступлением, если до этого другие люди неизменно наказывались за подобное действие, чем тогда, когда они оставались до этого во многих случаях безнаказанными. Ибо такие примеры безнаказанности являются надеждой на безнаказанность, внушенной правонарушителю самим сувереном. И так как тот, кто внушает человеку такую надежду на безнаказанность, которая поощряет этого человека к совершению преступления, сам является участником этого преступления, то он не может разумным образом взваливать всю вину за это преступление на непосредственного правонарушителя.
Преступление, проистекшее из внезапной страсти, не так велико, как такое, которое совершено по зрелом размышлении. Ибо в первом случае смягчающим вину обстоятельством является общая слабость человеческой природы. Тот же, кто совершил преступление с заранее обдуманным намерением, хладнокровно взвесил закон, наказание и последствия преступления для человеческого общества и всем этим пренебрег, поставив превыше всего свою собственную склонность. Но внезапность страсти не является достаточным основанием для полного оправдания, ибо время, протекшее с момента первого знакомства с законом до совершения преступления, должно приниматься как время обдумывания, так как правонарушитель обязан был размышлением над законом побороть порочность своих страстей.
Если закон опубликован и старательно прочитан и истолкован перед всем народом, то всякое деяние, совершенное в его нарушение, является большим преступлением, чем в том случае, когда люди оставлены без такого наставления и вынуждены сами осведомляться о содержании закона, что создает для них трудность и неуверенность и заставляет их прерывать свои обычные занятия и информироваться у частных людей. Ибо в последнем случае часть вины отпадает в силу очень распространенного незнакомства с законом, в первом же случае имеется небрежность, не свободная от элемента презрения к верховной власти.
Деяния, которые ясно выраженный закон осуждает, но законодатель другими несомненными проявлениями своей воли молчаливо одобряет, являются меньшим преступлением, чем те же деяния, осужденные как законом, так и законодателем. Ибо так как мы знаем, что воля законодателя есть закон, то мы в первом случае имеем два противоречащих друг другу закона – обстоятельство, которое служило бы полным оправданием, если бы люди обязаны были судить о том, что одобряется законодателем по другим признакам, чем тот, который представляет его ясно выраженное повеление. Но так как в данном случае наказание полагается не только за нарушение закона, но и за его исполнение, то законодатель сам является отчасти причиной правонарушения, и он поэтому не может взвалить всю вину за преступление на правонарушителя. Например, закон запрещает дуэли, и они наказываются как уголовное преступление. С другой стороны, человек, не принимающий вызова на дуэль, подвергается глубочайшему презрению и иногда считается самим сувереном недостойным занимать какой-нибудь командный пост или получить продвижение по военной службе. Если в силу этого человек принимает дуэль, полагая, что все люди законно стремятся иметь о себе хорошее мнение тех, кто обладает верховной властью, то он разумным образом не должен быть строго наказан, так как часть вины явно падает на того, кто наказывает. Я говорю это не из желания, чтобы была предоставлена свобода частной мести или другой форме неповиновения, а из заботы о правителях, чтобы они не поощряли косвенно того, что ими прямо запрещается. Примеры монархов оказывают и всегда оказывали более могущественное влияние на действия тех, перед глазами которых эти примеры имелись, чем самые законы. И хотя нашей обязанностью является делать не то, что монархи делают, а лишь то, что монархи приказывают, но эта обязанность никогда не будет выполнена до тех пор, пока Богу не будет угодно оказать людям необычайную сверхъестественную милость, внушив им склонность следовать этому правилу.
Если мы, дальше, сравниваем преступления по степени вредности их последствий, то, во-первых, одно и то же действие является большим преступлением, когда оно приносит вред многим, чем тогда, когда оно приносит вред немногим. И поэтому, когда какое-нибудь действие приносит вред не только в настоящем, но и (к примеру) в будущем, то оно является большим преступлением, чем тогда, когда оно приносит вред лишь в настоящем. Ибо первое преступление является плодородным, порождая повреждения многих, последнее же преступление является бесплодным. Преподавать учения, противные установленной в государстве религии, является большим преступлением со стороны уполномоченного государством проповедника, чем со стороны частного лица. То же различие приходится делать в случаях нечестивого и невоздержанного образа жизни или при совершении нечестивого акта. Точно так же распространение какого-нибудь мнения или совершение какого-нибудь акта, клонящегося к ослаблению верховной власти, является большим преступлением, когда правонарушителем является профессор права, чем тогда, когда таковым является всякий другой человек. Точно так же является большим преступлением один и тот же противозаконный акт, если он совершен человеком, пользующимся славой мудрого, так что многие следуют его советам и подражают его действиям, чем если тот же акт совершен обыкновенным человеком. Ибо первый не только совершает преступление, но преподает это как закон всем другим людям. И вообще все преступления становятся более сугубыми в зависимости от производимого ими скандала, то есть в зависимости от того, насколько они становятся камнями преткновения для слабых людей, которые не столько смотрят на тот путь, на который они вступают, сколько на тот свет, который несут перед ними другие.
Точно так же действия, враждебно направленные против существующего положения государства, являются более сугубыми преступлениями, чем такие же действия, направленные против частных лиц. Ибо в первом случае вред распространяется на всех. Такими действиями являются, например, сообщение врагу сведений о состоянии военных сил государства, сообщение врагу секретных сведений, также всякие покушения на представителя государства, будь то монарх или собрание, и всякие попытки словом или делом умалить авторитет суверена в настоящем или в будущем. Этого рода преступления римляне обозначали понятием crimina laesae majestatis, и заключаются они в намерении или действиях, противных основному закону.
Более сугубыми являются также преступления, подрывающие действие судебных решений, чем обиды, причиненные одному или нескольким лицам, например, брать деньги с тем, чтобы вынести неправедное судебное решение или с тем, чтобы лжесвидетельствовать на суде, является более преступным, чем надуть человека на такую же или на большую сумму, ибо в первом случае не только совершено беззаконие по отношению к тому, кто пострадал от такого приговора, но все судебные решения становятся бесполезными, являясь лишь орудиями силы и частной мести.
Грабить или расхищать государственную казну или государственные доходы является более сугубым преступлением, чем грабить и надувать частного человека, ибо грабить государство – значит грабить многих сразу.
Узурпировать путем обмана государственную должность, подделывать государственные печати или монеты является более преступным, чем выдавать себя в целях обмана за какое-нибудь другое частное лицо или подделывать печать частного лица, ибо обман государства есть нанесение ущерба многим.
Из противозаконных деяний, направленных против частных лип, бóльшим преступлением является то деяние, вред которого, по общему мнению людей, является более чувствительным. И поэтому противозаконное убийство является большим преступлением, чем всякое другое повреждение, при котором жизнь сохраняется.
Убийство, сопровождаемое пытками, – большее преступление, чем простое убийство. Членовредительство – большее преступление, чем грабеж.
Похитить где-либо имущество, угрожая владельцу смертью или увечьем, есть большее преступление, чем тайное похищение.
Тайное похищение есть большее преступление, чем похищение имущества с согласия его владельца, полученного путем обмана.
Изнасиловать женщину есть большее преступление, чем соблазнить ее лестью. И соблазнить замужнюю женщину – большее преступление, чем соблазнить незамужнюю.
Ибо такова общая оценка, хотя некоторые люди более, другие менее чувствительны к тому же самому преступлению. Однако закон считается не с частными склонностями, а с общей склонностью человеческого рода.
И поэтому оскорбления, нанесенные людям каким-нибудь обидным словом или жестом, когда эти последние не причиняют никакого иного вреда, кроме непосредственного огорчения того, по чьему адресу эти обидные слова или жесты направлены, – такие оскорбления не считались преступлениями греческими и римскими законами, а также законами других, как древних, так и новых, государств, так как соответствующие законодатели полагали, что истинная причина огорчения обиженного кроется не в оскорблении (которое не должно производить впечатление на людей, знающих себе цену), а в его собственном малодушии.
Преступления против частных лиц точно так же усугубляются обстоятельствами лиц, времени и места. Ибо, убить своего родителя есть большее преступление, чем убить другого человека, так как родитель должен почитаться как суверен (хотя он уступил свою власть гражданскому закону), каким он был в естественном состоянии. А ограбление бедного человека есть большее преступление, чем ограбление богатого человека, ибо для бедного человека это более чувствительный ущерб.
Преступление, совершенное в месте, отведенном для богослужения и в часы богослужения, является более серьезным, чем то же преступление, совершенное в другое время и в другом месте, ибо первое проистекает из большего презрения к закону.
Можно было бы привести еще много других отягощающих и смягчающих вину обстоятельств, но из приведенных мной примеров всякому человеку ясно, как определить степень преступности любого противозаконного действия.
Наконец, так как почти во всех преступлениях пострадавшей стороной являются не только какие-нибудь частные лица, но также и государство, то если обвинение в каком-нибудь преступлении возбуждено от имени государства, преступление называется уголовным преступлением, если же обвинение в том же преступлении возбуждено от имени частного лица, преступление называется частным преступлением; и обвинение, соответственно этому, называется уголовным обвинением judicia publica или частным обвинением. Так, например, при обвинении в убийстве, если обвинителем выступает частное лицо, то обвинение называется частным обвинением; если же обвинителем выступает государство, обвинение называется уголовным.
Глава XXVIII
О наказаниях и наградах
Наказание есть зло, причиненное государственной властью тому, кто совершением или несовершением какого либо деяния совершил согласно суждению той же власти правонарушение, при чем это зло причиняется с целью сделать волю людей более расположенной к повиновению.
Прежде чем вывести какое-нибудь заключение из этого определения, следует ответить на один чрезвычайной важности вопрос, а именно на вопрос о том, откуда взялись право или власть наказывать в каком бы то ни было случае. Ибо согласно тому, что было сказано раньше, никто не может быть обязан на основании договора не оказывать сопротивления насилию, и, следовательно, нельзя предположить, чтобы кто-либо дал другому право применять насилие по отношению к нему. При образовании государства всякий человек отказывается от права защищать другого человека, но не от права самозащиты. Всякий человек обязывается также при образовании государства оказывать содействие суверену, когда последний наказывает другого, но не тогда, когда он хочет наказать самого обязывающегося. Но договор подданного о содействии суверену в причинении вреда другому не переносит на суверена права наказывать, если сам договаривающийся подданный не имеет этого права. Отсюда ясно, что право государства (то есть того или тех, кто представляет его) наказывать не имеет своим основанием какую-либо уступку или дар подданных. Но я уже показал также раньше, что до образования государства всякий человек имел право на все, а также имел право делать все, что считал необходимым для своего самосохранения, например, покорить, искалечить и убить любого человека, поскольку это необходимо было для указанной цели.
И это есть основа того права наказывать, которое практикуется в каждом государстве. Ибо подданные не дают суверену этого права, и лишь одним тем, что они отказываются от своего права, они расширяют его возможность использовать свое право так, как он это считает нужным в целях сохранения их всех. Таким образом указанное право не было дано суверену, а лишь оставлено ему, и лишь одному ему и (за исключением границ, поставленных ему естественным законом) оставлено ему в таком же виде, как оно существовало в естественном состоянии и в состоянии войны всех против всех.
Из определения наказания я заключаю, во-первых, что ни частная месть, ни ущерб, нанесенный частными людьми, не могут называться наказаниями в собственном смысле этого слова, так как они не исходят от государственной власти.
Во-вторых, отсутствие внимания к подданному со стороны государства и непродвижение его по службе не есть наказание, ибо всем этим не причиняется человеку какое-нибудь новое зло; он лишь оставляется в том состоянии, в котором он был раньше.
В-третьих, зло, причиненное по полномочию государства без предварительного судебного приговора, не может называться наказанием, а лишь враждебным актом, ибо деяние, за которое человек наказывается, должно быть предварительно квалифицировано судебным решением как правонарушение.
В-четвертых, зло, причиненное узурпатором власти и на основании решения судей, не уполномоченных сувереном, является не наказанием, а лишь враждебным актом, ибо осужденное лицо не приняло на свою ответственность акты, совершенные узурпатором, и поэтому они не являются актами государственной власти.
В-пятых, зло, причиненное без намерения или возможности расположить правонарушителя или (благодаря его примеру) других людей к повиновению законам, есть не наказание, а лишь враждебный акт, ибо без такой цели никакое причиненное зло не может быть обозначено этим именем.
В-шестых, там, где известные деяния влекут за собой в силу естественного хода вещей пагубные последствия для действующего лица, например, когда человек при совершении покушения на другого сам убит или ранен или когда человек заболевает при совершении какого-либо противозаконного акта, то хотя в отношении Бога, являющегося творцом природы, и можно сказать, что это зло причинено им и поэтому является божеским наказанием, но в отношении людей это зло не может быть названо наказанием, ибо оно не причинено человеческой властью.
В-седьмых, если причиненное преступнику зло перевешивается благом или удовольствием, естественно связанным с совершением преступления, то это зло не подпадает под определение наказания, а является скорей ценой, заплаченной за преступление, или выкупом за него, чем наказанием. Ибо в природу наказания входит цель расположить людей к повиновению законам, каковая цель (если зло наказания перевешивается выгодой, проистекающей из правонарушения) не достигается, и наказание оказывает обратное действие В-восьмых, если наказание за известное преступление определено и предписано самим законом, а на человека, повинного в этом преступлении, наложено большее наказание, то излишек есть не наказание, а враждебный акт. Ибо так, как мы видим, что целью наказания является не месть, а устрашение, а страх неизвестного большего не мог иметь места в данном случае ввиду того, что в законе определено более мягкое наказание, то непредвиденный излишек не является частью наказания. Но там, где закон совсем не определяет наказания, всякое причиненное зло имеет природу наказания. Ибо тот, кто решается на правонарушение, наказание за которое не определено законом, ждет неопределенного, то есть произвольного, наказания.
В-девятых, зло, причиненное за деяние, совершенное до издания закона, запрещающего это деяние, является не наказанием, а враждебным актом. Ибо до своего издания закон не может быть нарушен. Наказание же предполагает, что совершенное деяние определено судом как правонарушение. Поэтому зло, причиненное за деяние, совершенное до издания запрещающего закона, не есть наказание, а лишь враждебный акт.
В-десятых, зло, причиненное представителю государства, есть не наказание, а враждебный акт, ибо существенной особенностью наказания является то, что оно есть зло, причиненное государственной властью, которая есть власть одного лишь представителя государства.
Наконец, зло, причиненное отъявленному врагу государства, не подходит под понятие наказания, так как такие враги государства или никогда не были подчинены закону и поэтому не могут нарушать его, или если они были раньше подчинены, а потом заявили, что они не намерены больше подчиняться ему, то они этим заявлением сделали для себя невозможным нарушать его. Вот почему всякое зло, причиненное таким врагам государства, должно быть рассматриваемо как враждебный акт. Однако отъявленный враг государства может по праву быть подвергнут любой расправе. Отсюда следует, что если подданный стал бы делом или словом, умышленно и с заранее обдуманным намерением подкапываться под авторитет представителя государства, то он может быть по праву подвергнут любой расправе, которую представитель государства пожелает (какое бы наказание ни было предварительно установлено за измену). Ибо своим отказом подчиниться закону он отвергает и установленное законом наказание, а поэтому он подвергается расправе как враг государства, то есть согласно воле представителя. Ибо наказания, установленные в законе, предназначены для подданных, а не для врагов, каковыми являются те, кто, будучи подданным на основании своего собственного акта, умышленным бунтом отрицает верховную власть.
Первое и наиболее общее разделение наказаний есть деление на Божьи и человеческие. О первых я буду иметь повод говорить в более подходящем месте после; человеческими являются те наказания, которые применяются по приказанию человека, и они бывают или телесные, или денежные, или бесчестие, или заточение, или изгнание, или смешанные из них.
Телесное наказание – это то, которому подвергается непосредственно тело наказуемого согласно намерению того, кто применяет наказание. Таковы, например, удары бичом, нанесение ран или лишение таких физических удовольствий, которым наказуемый до этого мог законным образом предаваться.
Телесные наказания делятся на смертную казнь и на наказания меньшие, чем смертная казнь. Смертная казнь бывает или простая, или соединенная с пытками. Меньшие суть удары бичом, поранения, наложение оков и причинение всякой другой телесной боли, не являющейся смертельной по своей природе. Ибо если за применением наказания следует смерть, причинение которой не было в намерении того, кто применяет наказание, то наказание не следует рассматривать как смертную казнь, хотя повреждение оказалось смертельным в силу непредвиденной случайности, так как в этом случае смерть была не сознательно причинена, а лишь случайно вызвана.
Денежным наказанием является не только наказание, состоящее в лишении наказуемого определенной суммы денег, но и наказание, состоящее в лишении наказуемого всякого недвижимого и движимого имущества, которое обыкновенно покупается и продается за деньги. Но в том случае, когда закон, устанавливающий это наказание, издан специально с целью собрать деньги с тех, кто нарушит этот закон, то указанные штрафы являются собственно не наказанием, а ценой привилегии или изъятия из закона, запрещение которого является не абсолютным, а лишь запрещением для тех, кто не в состоянии заплатить за его нарушение. Иначе обстоит дело, когда закон является естественным законом или частью религии, ибо в этом случае мы имеем не изъятие из закона, а его нарушение, например, там, где закон требует наложения денежного взыскания на тех, кто употребляет имя Бога всуе, то уплата взыскания есть не уплата за разрешение божиться, а наказание за нарушение нерушимого закона. Точно так же, если закон требует уплаты известной суммы денег тому, кому нанесен ущерб, то это лишь удовлетворение за нанесенный последнему ущерб, которое лишь аннулирует иск пострадавшей стороны, но не преступление правонарушителя.
Бесчестие есть причинение такого зла, которое является позорным, или лишение такого блага, которое является почетным в государстве. Ибо есть вещи, почетные по природе, как, например, проявление храбрости, великодушия, физической силы, мудрости и других физических и душевных качеств, другие же сделаны почетными государством, таковы, например, ордена, титулы, должности или другие знаки милости суверена. Первые (хотя они могут исчезнуть в силу естественных причин или в силу случайности) не могут быть отняты законом, и поэтому их потеря не является наказанием. Последние же могут быть отняты государственной властью, сделавшей их почетными, и такое лишение является наказанием в собственном смысле слова. Таково, например, лишение осужденных людей их орденов, титулов и должностей или объявление их неспособными иметь таковые в будущем.
Заточение имеет место, когда человек лишается государственной властью свободы. Такое лишение свободы имеет место в двух разных случаях. В одном случае берется под стражу человек, против которого возбуждено обвинение, в другом случае причиняется страдание человеку осужденному. Первое не есть наказание. Ибо никто не может быть наказан до того, как его дело слушалось в судебном порядке, и до того, как он был объявлен виновным. Поэтому всякое страдание, причиненное неосужденному человеку наложением оков или каким-либо ограничением сверх того, что необходимо для обеспечения его охраны, противоречит естественному закону. Во втором случае мы имеем наказание, ибо налицо имеется зло, причиненное государственной властью за нечто, признанное той же властью нарушением закона. Под словом заточение я понимаю всякое ограничение свободы передвижения, причиненное внешним препятствием, будь то дом, который называют общим именем тюрьмы, или остров, куда люди, как выражаются, заточены, или место принудительных работ, как, например, в старое время люди присуждались к принудительным работам в каменоломнях, а в настоящее время к работам на галерах, или будь то цепь или иное аналогичное препятствие.
Изгнание – это когда человек за какое-нибудь преступление присуждается оставить пределы государства или какой-нибудь части государства без права возвращения в течение определенного времени или когда-либо. И сама по себе, без других привходящих обстоятельств, такая мера не является наказанием, а скорее бегством или приказом государства избавиться от наказания при помощи бегства. И Цицерон утверждает, что подобное наказание никогда не было установлено в городе Риме, и он называет это спасением людей, которым грозит опасность. Ибо если изгнанному разрешено пользоваться своим имуществом и доходами со своих земель, то одна перемена воздуха не является наказанием. Да такая мера и не служит ко благу государства (а для этой цели установлены все наказания, то есть чтобы направить волю людей к соблюдению закона) и часто даже служит во вред государству. Ибо изгнанный человек, перестав быть членом изгнавшего его государства, является его законным врагом. Если же вместе с изгнанием он также лишен своих земельных владений или своего имущества, тогда наказание заключается не в изгнании, а должно причисляться к видам денежного наказания.
Всякое наказание невинных подданных, великое или малое, противоречит естественному закону. Ибо наказание может быть наложено лишь за правонарушение, а поэтому не может быть никакого наказания по отношению к невинному. Наказание невинного есть поэтому прежде всего нарушение того естественного закона, который запрещает всем людям руководствоваться в своей мести чем-либо другим, кроме соображения какого-либо будущего блага, ибо наказание невинного не может принести государству никакой пользы. Такое наказание, во-вторых, противоречит естественному закону, запрещающему неблагодарность. Ибо так как всякая верховная власть, как мы знаем, дана вначале с согласия каждого из подданных, с тем чтобы получать защиту от этой верховной власти в течение всего времени, пока он будет повиноваться ее повелениям, то наказание невинного есть воздаяние злом за добро. Такое наказание, в-третьих, есть нарушение естественного закона, предписывающего справедливость, то есть воздавать каждому должное, что при наказании невинного не соблюдается.
Однако причинение какого угодно зла невинному человеку, который не является подданным, не есть нарушение естественного закона, если это требуется в интересах государства и не является нарушением заключенного ранее договора. Ибо все люди, которые не являются подданными, суть или враги, или перестали быть таковыми в силу предшествующего договора. Против врагов же, которых государство считает способными причинить ему вред, первичный естественный закон разрешает вести войну, в которой меч не разбирает, а победитель ныне, как и встарь, не делает различия между виновным и невиновным и дает пощаду лишь постольку, поскольку это может идти на пользу его собственному народу. На том же основании и по отношению к подданным, которые предумышленно подкапываются под авторитет установленного государства, месть государства законно распространяется не только на их отцов, но и на их третье и четвертое поколения, которые еще не существуют и, следовательно, не могут быть повинны в том преступлении, за которое они наказываются. Ибо природа этого преступления состоит в отказе от подданства, что является возвращением к состоянию войны, называемому обыкновенно бунтом, и те, которые совершают такие преступления, подвергаются расправе не как подданные, а как враги, так как бунт есть лишь возобновленное состояние войны.
Вознаграждение бывает или в качестве дара, или по договору. Вознаграждение по договору называется жалованьем или заработной платой и представляет собой благо, причитающееся за оказанную или обещанную услугу. Если же это вознаграждение является даром, то оно представляет собой благо, проистекающее из милости тех, кто это благо жалует, и имеющее целью поощрять людей к оказыванию услуг дарующим или дать людям возможность оказывать эти услуги. И поэтому, если суверен ка кого-либо государства назначает жалованье за исполнение какой-нибудь государственной должности, то тот, кто получает это жалованье, юридически обязан исполнять эту должность; в ином случае он обязан лишь по чести быть признательным и употребить усилия отплатить за оказанную почесть. Ибо хотя люди не имеют никакой законной возможности отказаться, когда суверен повелевает им бросить свои собственные дела и служить государству без вознаграждения, или жалованья, однако они не обязываются к этому ни естественным законом, ни в силу установления государства, за исключением того случая, когда соответствующие государственные функции не могут быть иным путем выполнены. В этом последнем случае подданный обязан выполнить повеление суверена, ибо предполагается, что суверен имеет право использовать все средства своих подданных, поскольку самый рядовой солдат может требовать своего жалованья за свою военную службу как причитающегося ему долга.
Блага, которые суверен жалует подданному из боязни, что этот последний имеет силу принести вред государству, не служат вознаграждением в собственном смысле, ибо они не являются жалованьем, предварительным условием которого является договор, который в данном случае не мог иметь места, так как всякий человек обязал и без такого договора не вредить государству. Но эти блага не являются также и милостью, ибо они исторгнуты страхом, который не должен быть присущ верховной власти. Эти пожалованные блага являются поэтому скорее жертвами, которые суверен (лично, а не в качестве представителя государства) приносит, чтобы задобрить тех недовольных, которых он считает более могущественными, чем он сам; и такие жалованные блага поощряют не к повиновению, а, напротив, к дальнейшему продолжению и усилению вымогательств.
И притом в некоторых случаях жалованье бывает твердым и получается из государственного казначейства, а в других случаях оно бывает неопределенным и случайным и зависит от выполнения тех обязанностей, за которые установлено жалованье. Последнего рода жалованье является в некоторых случаях вредным для государства, так, например, в судебных органах, ибо там, где жалованье судей и служителей суда определяется количеством рассмотренных ими дел, необходимо возникают два неудобства. Такое положение, во-первых, плодит тяжбы, ибо, чем больше дел, тем больше жалованья, а во-вторых, оно ведет к спорам о подсудности, ибо каждая судебная инстанция тащит к себе столько дел, сколько она может. Однако в органах исполнения эти неудобства не существуют, ибо эти органы не могут собственными усилиями увеличить круг своих дел. И этим довольно сказано о наказаниях и вознаграждениях, которые представляют собой как бы нервы и сухожилия, приводящие в движение члены и суставы государства.
Я обрисовал до сих пор природу человека (чья гордость и другие страсти вынудили его подчиниться государственной власти) и одновременно и огромную власть его властителя, которого я сравнивал с Левиафаном, взяв это сравнение из последних двух стихов сорок первой главы книги Иова, где Бог, рисуя великую силу Левиафана, называет его царем над всеми сынами гордости. Нет на земле, говорит Бог, подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости. Но так как этот Левиафан смертен и подвержен тлению, как все другие земные существа, и так как на небесах (хотя не на земле) существует тот, кого он должен страшиться и чьим законам он должен повиноваться, то я в ближайших главах буду говорить о его болезнях, о том, отчего он умирает, и о тех естественных законах, которым он обязан повиноваться.
Глава XXIX
О том, что ослабляет государство и ведет к его распаду
Хотя ничто, сотворенное смертными, не может быть бессмертно, однако если бы люди руководствовались тем разумом, на обладание которым они претендуют, их государства могли бы быть по крайней мере застрахованы от смерти вследствие внутренних болезней. Ибо по своей природе эти установления призваны жить так же долго, как человеческий род, или как естественные законы, или как сама справедливость, которая дает им жизнь. Поэтому когда государства приходят в упадок не вследствие внешнего насилия, а вследствие внутренних междоусобий, то это вина людей не постольку, поскольку они являются материалом, из которого составлены государства, а поскольку они являются творцами и распорядителями последних. Ибо когда люди, устав наконец от беспорядочных столкновений и взаимной резни, желают от всей души приладиться друг к другу, чтобы образовать совместно прочное и долговечное здание из людского материала, то вследствие неумения людей создать справедливые законы, чтобы сообразовать с ними свои деяния, а также вследствие недостатка у них смирения и терпения, чтобы мириться с упразднением шероховатых и грубых сторон их прежней безграничной свободы, нельзя без помощи очень способного архитектора построить что-либо иное, кроме шаткого здания, которое, едва пережив самих строителей, неминуемо обрушится на голову их потомства.
Из болезней государства я поэтому на первом месте считаю те, которые возникают от несовершенного его конституирования и которые аналогичны болезням естественного тела, проистекающим от ненормальностей зародыша.
Одной из этих болезней является то, что человек, провозглашенный королем, довольствуется иногда меньшей властью, чем та, которая необходимо требуется в интересах мира и защиты государства. Из этого вытекает следующее: когда такому королю приходится в интересах безопасности государства использовать и те права, от которых он отказался, то это имеет видимость незаконного акта сего стороны, побуждающего огромное число людей (при наличии подходящего повода) к восстанию. Так и тела детей, произведенных на свет больными родителями, или обречены на преждевременную смерть, или же дурные последствия их ненормального зачатия сказываются на них разлитием желчи и болезненными наростами. А когда короли отказываются от некоторых своих неотъемлемых прав, то это не всегда происходит (хотя иногда и может происходить) вследствие незнания ими того, что необходимо для принимаемого ими поста: часто это делается ими в надежде на то, что они смогут получить эти права обратно, как только этого пожелают. В этом случае они ошибаются, ибо те, кто заставит их сдержать свое обещание, найдут поддержку против них у иностранных государств, которые в интересах благоденствия своих собственных подданных редко упускают случай ослабить соседние им государства. Так, например, был поддержан папой против Генриха Второго архиепископ Кентерберийский Фома-Бекет, и подчинение клира государству было отменено Вильгельмом Завоевателем, который при вступлении на престол поклялся не стеснять свободы церкви. Точно так же и бароны, власть которых при Вильгельме Рыжем (который благодаря их содействию унаследовал престол вместо своего старшего брата) выросла до степени, несовместимой с правами верховной власти, были поддержаны французами в их восстании против короля Иоанна.
И это случается не только в монархиях. Ибо так как титулом древнеримского государства было: сенат и народ Рима, то ни сенат, ни народ не обладали полнотой власти, что прежде всего привело к мятежам Тиберия Гракха, Гая Гракха, Люция Сатурнина и других, а затем к войнам между сенатом и народом при Марии и Сулле, а затем снова при Помпее и Цезаре – к войнам, которые привели к гибели их демократии и к установлению монархии.
Народ Афин наложил на себя ограничение в отношении одного лишь действия, а именно было запрещено под страхом смерти агитировать за возобновление войны за остров Саламин. И однако же, если бы Солон не притворился сумасшедшим и с ужимками и в одеянии сумасшедшего не стал бы в стихах предлагать собравшемуся вокруг него народу возобновление этой войны, афинский народ имел бы перед самыми воротами своего города врага, готового в любую минуту напасть на него. Такой опасности подвергаются или к такой хитрости вынуждены прибегнуть все государства, которые в чем-либо ограничивают свою власть.
На втором месте я считаю болезни государства, причиненные ядом мятежнических учений, одним из которых является учение, что всякий частный человек является судьей того, какие действия хороши и какие дурны. Это верно в условиях естественного состояния, когда нет гражданских законов, а при наличии гражданского правления в таких случаях, которые не определены законом. Во всех же других случаях ясно, что мерилом добра и зла является гражданский закон, а судьей – законодатель, который всегда является представителем государства. Благодаря этому ложному учению люди становятся склонными дебатировать друг с другом и обсуждать повеления государства, а затем повиноваться или не повиноваться им в зависимости от своего собственного усмотрения, что вносит смуту и ослабляет государство.
Другим учением, противным гражданскому обществу, является положение, что все, что человек делает против своей совести, является грехом. Это положение вытекает из предыдущего, согласно которому всякий человек является судьей добра и зла. Ибо человеческая совесть и его суждение есть одно и то же, и как суждение, так и совесть человека могут быть ошибочны. Поэтому хотя тот, кто не подчинен никаким гражданским законам, и совершает грех во всех тех случаях, когда он делает что-либо против своей совести, ибо, кроме своего собственного разума, он не имеет никаких других правил, которым он мог бы следовать, однако не так обстоит дело с человеком, живущим в государстве, так как закон есть совесть государства, следовать руководству которого он признал для себя обязательным. Иначе различие, существующее между частными совестями, которые являются лишь частными мнениями, необходимо должно было бы внести смуту в государство, и всякий стал бы повиноваться верховной власти лишь постольку, поскольку ее повеления встречали бы его личное одобрение.
Обыкновенно учили также тому положению, что вера и святость приобретаются не учением и размышлением, а сверхъестественным вдохновением или внушением. Если признать это положение правильным, то я не вижу, почему кто-либо должен был бы отдавать себе отчет в своей вере, или почему всякий христианин не должен был бы быть также пророком, или почему кто-либо должен был бы руководствоваться в своих действиях законами своей страны, а не собственным вдохновением. И таким образом мы снова впадаем в ошибку объявить себя самих судьями добра и зла или сделать судьями в этих вопросах таких частных людей, которые претендуют на сверхъестественное внушение, что должно вести к разложению всякой гражданской власти. Вера основана на том, что мы слышим, а то, что мы слышим что-нибудь, обусловлено теми случайностями, которые сталкивают нас с людьми, речи которых мы слышим. Все эти случайности вызваны к жизни Богом всемогущим, и, однако, они не являются сверхъестественными, а лишь незаметными, вследствие того, что в производстве всякого следствия участвует огромное число их. Вера и святость в самом деле не очень часто встречаются, однако они не являются чудесами, а осуществляются воспитанием, дисциплиной, самоконтролированием и другими естественными средствами, при помощи которых Бог производит их в своем избраннике тогда, когда Он считает это нужным. И эти три мнения, вредные для мира и для власти, получили распространение в этой части света главным образом благодаря речам и книгам необразованных теологов, которые, связывая слова Священного Писания не так, как это соответствует разуму, делают все, что в их силах, чтобы заставить людей думать, будто святость и естественный разум суть вещи несовместимые.
Четвертое мнение, противоречащее природе государства, сводится к тому, что тот, кто имеет верховную власть, подчинен гражданским законам. Верно то, что все суверены подчинены естественным законам, так как эти законы даны Богом и не могут быть отменены ни человеком, ни государством. Но суверен не подчинен тем законам, которые он сам, то есть которые государство, создает. В самом деле, быть подчиненным законам значит быть подчиненным государству, то есть верховному представителю его, что для суверена означает быть подчиненным самому себе. А последнего рода подчинение не есть подчинение законам, а свобода от законов. Указанное ошибочное мнение, ставя законы над сувереном, тем самым ставит и судью над ним, а также власть, которая может его наказывать, но это значит делать нового суверена, и на том же основании третьего, чтобы наказывать второго, и так дальше до бесконечности, что должно вести к разрушению и разложению государства.
Пятая доктрина, ведущая к распаду государства, заключается в положении, что всякий частный человек обладает абсолютным правом собственности на свое имущество, так им, которое исключает право суверена. Всякий человек обладает в самом деле правом собственности, исключающим право всякого другого подданного. И он имеет это право исключительно от верховной власти, без защиты которой всякий другой человек имел бы равное право на то же самое имущество. Если же было бы исключено также и право суверена, то последний не мог бы выполнить возложенных на него обязанностей, а именно обязанностей защиты подданных от иноземных врагов и от взаимных обид внутри, и, следовательно, государство перестало бы существовать.
И если право собственности подданных не исключает права суверенного представителя на их имущество, то тем менее исключается право суверена на занимаемые подданными должности по суду и исполнению, где соответствующие должностные лица представляют самого суверена.
Имеется шестая доктрина, ясно и прямо направленная против сущности государства. Доктрина эта гласит, что верховная власть делима. Ибо делить власть государства – значит разрушить ее, так как разделенные власти взаимно уничтожают друг друга. И этими учениями люди главным образом обязаны некоторым из профессиональных юристов, которые стремятся делать людей зависимыми от их собственных учений, а не от законодательной власти.
И как ложные учения, точно так же примеры различных правительственных форм у соседних народов часто располагают людей к изменению установленного образа правления. Такое именно обстоятельство побудило еврейский народ отвергнуть Бога и требовать от пророка Самуила царя по образцу прочих народов. Точно так же и меньшие города Греции непрерывно потрясались мятежами аристократических и демократических партий, из которых одна партия в каждом почти государстве желала подражать лакедемонянам, другая – афинянам. И я не сомневаюсь, что многие люди были рады видеть недавние смуты в Англии из желания подражать Нидерландам, полагая, что для увеличения богатств страны не требуется ничего больше, как изменить, подобно Нидерландам, форму правления. В самом деле, люди по самой своей природе жадны к переменам. Если поэтому люди имеют перед собой пример соседних народов, которые к тому еще разбогатели при этом, то они не могут не прислушиваться охотно к тем, которые подстрекают их к переменам. И они рады, когда смута начинается, хотя горюют, когда беспорядки принимают затяжной характер, аналогично тому, как нетерпеливые люди, заболевшие чесоткой, раздирают себя своими собственными ногтями, пока боль не становится нестерпимой.
А что касается восстаний, в частности против монархии, то одной из наиболее частых причин таковых является чтение политических и исторических книг древних греков и римлян. Ибо, поддаваясь сильному и приятному впечатлению великих военных подвигов, совершенных предводителями армий указанных народов, молодые и другие люди, которым не хватает противоядия солидного ума, получают вместе с этим яркое представление обо всем, что эти народы сделали сверх того, и воображают, что их великое преуспеяние обусловлено было не соревнованием частных лиц, а их демократической формой правления. При этом эти люди не принимают во внимание тех частых мятежей и гражданских войн, к которым приводило несовершенство политического строя этих народов. Благодаря чтению таких книг, говорю я, люди дошли до убийства своих королей, так как греческие и римские писатели в своих книгах и рассуждениях о политике объявляют законными и похвальными такие акты, если только, прежде чем их совершить, человек назовет свою жертву тираном. Ибо они не говорят: цареубийство законно, а говорят: тираноубийство законно. Благодаря этим самым книгам те, которые живут под властью монарха, получают представления, что подданные демократического государства наслаждаются свободой, в монархии же все подданные рабы. Я говорю, что такое представление составляют себе те, которые живут под властью монархии, а не те, которые живут под властью демократического правительства, ибо последние не имеют питательной почвы для такого представления. Коротко говоря, я не могу себе представить более пагубной для монархии вещи, чем разрешать к публичному чтению такие книги, не применяя при этом коррективов, продуманных благоразумными знатоками и способных противодействовать яду этих книг. Этот яд я, не колеблясь, сравниваю с укусом бешеной собаки, порождающим болезнь, которую врачи называют hydrophobia, или водобоязнью. Ибо подобно тому, как укушенный таким образом мучается непрерывной жаждой и все же боится воды и находится в таком состоянии, как будто яд стремится превратить его в собаку, точно так и монархия, укушенная раз теми демократическими писателями, которые постоянно ворчат на эту форму правления, больше всего желает иметь сильного монарха и в то же время из какой-то тиранофобии или боязни сурового правления такого монарха страшится иметь его.
Подобно тому как были ученые, которые полагали, что человек имеет три души, точно так имеются такие, которые полагают, что государство может иметь больше одной души (то есть больше одного суверена), и учреждают верховенство против суверенитета, каноны против законов и духовную власть против гражданской. Эти ученые оперируют словами и различениями, которые сами по себе ничего не означают и лишь (своей темнотой) выдают, что здесь, в темноте (как некоторые думают, невидимо), бродит другое царство, как бы царство фей. Ибо так как мы знаем, что гражданская власть и власть государства – одно и то же и что верховенство и власть делать каноны и жаловать привилегии подразумевают государство, то отсюда следует, что там, где один является сувереном, а другой супремом (верховным представителем духовной власти), где один может издавать законы, а другой издавать каноны, там необходимо имеются два государства над одними и теми же подданными, а это значит, что государство раздвоено в самом себе и не может существовать. Ибо, несмотря на ничего не говорящее различие между светским и духовным, здесь имеются два государства, и каждый подданный подчинен двум властелинам. В самом деле, так как мы видим, что духовная власть требует для себя права объявлять, что есть грех, и, следовательно, требует для себя права объявлять, что есть закон (так как грех есть лишь нарушение закона), а с другой стороны, гражданская власть требует для себя права объявлять, что есть закон, то всякий подданный вынужден подчиняться двум властелинам, причем оба требуют, чтобы их приказы соблюдались как закон, что невозможно. Или если имеется лишь одна власть, тогда или гражданская власть, которая есть власть государства, должна быть подчинена духовной, и тогда имеется лишь духовный суверенитет, или же духовная власть должна быть подчинена светской власти, и тогда имеется лишь одно светское верховенство. Поэтому, когда обе эти власти противостоят друг другу, государство необходимо подвергается большой опасности гражданской войны и распада. Ибо гражданская власть, будучи более видимой и более понятной естественному разуму, не может не перетянуть на свою сторону значительную часть народа, с другой же стороны, духовная власть, хотя она и окутана тьмой школьных различений и непонятных слов, однако, так как боязнь тьмы и духов сильнее всякого другого страха, не может не иметь на своей стороне партии, достаточной, чтобы внести смуту в государство, а иногда и разрушить его. И это есть болезнь, которую не без основания можно сравнить с эпилепсией, или падучей (которую евреи принимали за известный вид одержимости духом), в естественном теле. Ибо подобно тому как при этой болезни имеется неестественный дух, или дуновение, в голове, который, или которое, парализует корни нервов и, двигая насильственно нервы, лишает их тех движении, которые они естественно получили бы от мозга, и этим сообщает сильные и неправильные движения частям тела (каковые движения люди называют конвульсиями), так что человек, охваченный ими, падает, как лишенный чувств, то в воду, то в огонь, точно так же и в политическом теле, когда духовная власть двигает члены государства страхом наказаний и надеждой на награду (которые являются нервами государства) не так, как они должны были бы быть движимы гражданской властью (которая является душой государства), и странными и непонятными словами душит разум людей, то она этим неминуемо вносит смуту в умы и или подавляет государство насилием, или бросает его в огонь гражданской войны.
Иногда бывает больше одной души и при чисто гражданском правлении. Так, например, в тех случаях, когда право взимания податей и налогов (что является питательной способностью) зависит от решения общего собрания, право управления и командования (которое является двигательной способностью) принадлежит одному человеку, а право делать законы (разумная способность) зависит от случайного согласия не только этих двух сил, но также и третьей. Такое положение подвергает государство опасности иногда вследствие того, что отсутствие согласия мешает изданию хороших законов, но чаще всего вследствие недостатка той пищи, которая необходима для жизни и движения. Ибо хотя некоторые люди и понимают, что такое правительство не есть правительство, а что мы имеем здесь государство, поделенное между тремя партиями, и они называют такую форму правления смешанной монархией, однако в действительности имеются в этом случае не одно независимое государство, а три независимых партии, не одно представительное лицо, а три. В Царстве Божьем могут быть без нарушения единства Бога, который царствует, три независимых Лица, но там, где царствуют люди, которые могут поддаваться различным мнениям, этого не может быть. И поэтому, если король является носителем лица народа и общее собрание также является носителем лица народа, а другое собрание является носителем лица части народа, то перед нами не одно лицо или не один суверен, а три лица и три суверена.
Я не знаю, с какого рода болезнью естественного тела человека я бы мог точно сравнить указанное ненормальное устройство государства. Однако я видел человека, из бока которого вырос другой человек с собственной головой, руками, грудью и желудком. Если бы у этого человека вырос из другого бока еще один человек, сравнение с этой аномалией могло бы быть точным.
До сих пор я называл наиболее серьезные и наиболее чреватые опасностями болезни государства. Бывают и другие, не столь серьезные болезни, которые, однако, не следует обойти молчанием. И первой из этих болезней является трудность во взимании денег, необходимых для потребностей государства, особенно когда надвигается война. Эти трудности возникают из того мнения, которое всякий подданный имеет о своем праве собственности на свои земли и движимое имущество, а именно будто бы это право собственности исключает право суверена пользоваться им. Следствием этого бывает, что верховная власть, которая предвидит нужды и опасности государства (видя, что приток средств в государственное казначейство вследствие упорства народа, прекратился), между тем как этот приток должен был бы расшириться, чтобы иметь возможность встретить и предупредить опасность в самом начале, – верховная власть, пока можно, сжимается; когда же это становится дольше невозможным, она начинает бороться с народом орудием закона, чтобы получить небольшие суммы; но так как эти суммы недостаточны, то верховная власть вынуждена в конце концов или насильственными мерами собрать необходимые ей средства, или же погибнуть. И если верховная власть часто вынуждается прибегнуть к этим крайним мерам, она в конце концов или приводит народ к достодолжному повиновению, или же иначе государство должно погибнуть. Эту болезнь мы можем вполне основательно сравнить с перемежающейся лихорадкой, при которой мясистые части застывают или бывают закупорены каким-нибудь ядовитым веществом, вследствие чего вены, которые при нормальном состоянии организма являются проводниками крови к сердцу, не получают крови (в той мере, как это должно быть) от артерий. Результатом этого бывают в первый момент холодное сжатие и дрожь членов, а затем горячее и энергичное усилие сердца форсировать проход для крови. Но прежде чем сердце это может сделать, оно довольствуется освежительным действием вещей, которые временно его охлаждают, пока (если организм достаточно силен) оно не сломит упорство закупоренных частей и не испарит яд в пот, или (если организм слишком слаб) больной умирает.
Бывает, кроме того, иногда болезнь государства, похожая на плеврит. Это бывает тогда, когда государственные финансы, оставив русло, по которому они обычно текут, концентрируются в слишком большом количестве в руках одного или немногих частных лиц – монополистов или откупщиков государственных доходов, подобно тому, как при плеврите кровь, концентрируясь в грудной перепонке, производит здесь воспаление, сопровождающееся лихорадкой и острой болью.
Опасной болезнью является также популярность могущественных подданных (если государство не имеет очень хорошего залога их верности). Ибо народ (который должен был бы получить свое движение от авторитета суверена) отвращается лестью и славой честолюбивого человека повиновения законам, чтобы следовать за человеком, нравственных качеств и намерений которого он не знает. И это обыкновенно более чревато опасностями в демократии, чем в монархии, ибо армия представляет собой такую силу и охватывает собой такую массу людей, что ей легко внушить веру в то, будто она является народом. Такими именно средствами Юлий Цезарь, поставленный народом против сената, завоевал любовь своей армии и сделал себя властелином над народом и сенатом. И этот образ действия популярных и честолюбивых людей представляет собой явный мятеж и может быть сравниваем с действием колдовства.
Другой болезнью государства является наличие в нем неумеренно большого города, если последний имеет возможность снарядить из среды своего населения и за свой счет большую армию. Болезнью также является наличие большого числа корпораций, представляющих собой как бы много меньших государств в недрах одного большого, как черви во внутренностях естественного человека. К этим болезням может быть прибавлена свобода высказываться против абсолютной власти, предоставленная людям, претендующим на политическую мудрость. И хотя эти люди в большинстве случаев являются выходцами из подонков народа, однако, будучи воодушевлены ложными учениями, они своими непрерывными нападками на основные законы производят беспокойство в государстве и подобны в этом отношении маленьким червячкам, которых врачи называют аскаридами.
Мы можем дальше прибавить как болезни государства: неутолимую жажду расширения своих владений, имеющую часто своим следствием неисцелимые раны, полученные от врагов, а также опухоль неассимилированных завоеваний, которые часто являются бременем и теряются с меньшей опасностью, чем приобретаются, болезнью являются также летаргия изнеженности и мотовство пиршеств и ненужных расходов.
Наконец, когда в войне (внешней или внутренней) враги одержали решительную победу, так что подданные не находят больше никакой защиты в своей лояльности (ибо военные силы государства покинули поле сражения), тогда государство распалось, и всякий человек волен защищать себя теми средствами, какие ему подскажет его собственное разумение. Ибо суверен есть душа государства, дающая государственному организму жизнь и движение, и, когда эта душа умирает, члены управляются ею не более, чем труп человека управляется покинувшей его (хотя и бессмертной) душой. И хотя право суверенного монарха не может быть аннулировано актом другого человека, однако обязательство членов может быть аннулировано. Ибо тот, кто нуждается в защите, может ее искать где угодно; и если он имеет ее, то он обязан защищать своего защитника, пока хватит его сил (не прибегая к мошеннической отговорке, что он, мол, подчинился ему из страха). Если же низвержена власть собрания, то его право угасает раз и навсегда, ибо само собрание прекратило свое существование, и, следовательно, оно не может стать снова носителем верховной власти.
Глава XXX
Об обязанностях суверена
Обязанности суверена (будь то монарх или собрание) определяются той целью, ради которой он был облечен верховной властью, а именно целью обеспечения безопасности народа, к чему он обязывается естественным законом и за что он отвечает перед Богом, творцом этого закона, и ни перед кем другим. Но под обеспечением безопасности подразумевается не одно лишь обеспечение безопасности голого существования, но также обеспечение за всяким человеком всех благ жизни, приобретенных им законным трудом, безопасным и безвредным для государства.
И подразумевается, что эта задача должна быть выполнена не заботами об отдельных индивидуумах сверх защиты их от обид, когда они на таковые жалуются, а общими мерами, состоящими в просвещении народа учением и примером и в издании и применении хороших законов, которые отдельные лица могли бы применять к своим собственным обстоятельствам.
И так как упразднение существенных прав верховной власти (конкретизированных в восемнадцатой главе) повлекло бы за собой распад государства и возвращение всякого человека к состоянию и бедствиям войны против всякого другого человека (что было бы величайшим из всех несчастий, могущих произойти в его жизни), то обязанностью суверена является удержать за собой эти права в полном объеме. Суверен, следовательно, поступает прежде всего против долга, если он уступает другому или отрекается от какого-нибудь из этих прав. Ибо тот, кто отказывается от средств, ведущих к определенным целям, тем самым отказывается также и от этих целей, а отказывается от средств тот, кто, будучи сувереном, признает себя подчиненным гражданским законам или отказывается от права высшей юрисдикции, или от права собственной властью объявлять войну и заключать мир, или от права определять нужды государства, или от права взимания податей и налогов и набора солдат, когда и сколько он сочтет нужным согласно внушениям своей собственной совести, или от права назначения военных и гражданских чиновников и должностных лиц, или от права назначения учителей и от права определять, какие учения соответствуют и какие противоречат интересам защиты мира и блага народа. Суверен, во-вторых, поступает против долга, если он оставляет народ в неведении или в полузнании об основаниях и смысле этих его существенных прав, так как вследствие этого люди могут поддаться соблазну и подстрекательству оказывать противодействие суверену именно тогда, когда интересы государства требовали бы использования и осуществления этих прав.
А основания этих прав тем более необходимо старательно и правильно разъяснять, что они не могут быть поддержаны ни гражданским законом, ни страхом законного наказания. Ибо гражданский закон, который запретил бы бунт (а таковым является всякое противодействие существенным правам верховной власти), имел бы обязательную силу лишь на основании естественного закона, запрещающего нарушение верности. А если люди не знают этой естественной обязанности, то они не знают и права суверена на составление законов. А что касается наказания, то они принимают это лишь за враждебный акт, который они будут стремиться отвратить от себя враждебными актами со своей стороны, если они считают себя достаточно сильными для этого. Я слышал, как некоторые утверждали, что справедливость есть лишь слово без всякого содержания и все, что человек может приобрести силой или хитростью, есть (не только в состоянии войны, но и в государстве) его собственное. Ложность этих утверждений я уже показал. Точно так же имеются такие, которые утверждают, что эти существенные права, которые делают верховную власть абсолютной, не имеют никаких оснований и не могут быть подкреплены никакими принципами разума. Ибо, если бы такие основания и принципы существовали, они были бы найдены в том или другом месте, между тем как мы видим, что до сих пор не существовало государства, в котором эти права признавались бы или требовались. Эти люди аргументируют так же плохо, как если дикие племена Америки стали бы отрицать существование каких бы то ни было оснований или принципов разума, в силу которых дом следовало бы так строить, чтобы он был так же долговечен, как материал, из которого он сделан, обосновывая свое отрицание тем, что они, мол, еще, не видели столь хорошо построенного дома. Время и человеческое трудолюбие рождают каждый день новое знание. И подобно тому, как лишь долго спустя после того, как человеческий род начал строить (хотя плохо), было изобретено искусство хорошо строить на основании применений принципов разума, открытых трудолюбивыми людьми, которые долго изучали природу материалов и различное влияние фигуры и пропорции, точно так же долго спустя после того, как люди начали основывать несовершенные и склонные снова погрузиться в хаос государства, могут быть прилежным размышлением найдены принципы разума, применение которых сделало бы существование государств долговечным (поскольку они не подвергаются насилию извне). И это именно те принципы, которые я изложил в этом трактате, причем меня в данный момент мало интересует, обратят ли внимание на эти принципы те, кто имеет власть практически применять их, отнесутся ли они к ним с пренебрежением или нет. Но если мы предположим, что изложенные мной принципы не являются принципами разума, то я, во всяком случае, уверен, что они являются принципами, имеющими за собой авторитет Писания, как я это покажу, когда буду говорить о царствовании Бога (при посредстве Моисея) над еврейским народом, принадлежавшим Ему на основании заключенного с ним завета.
Но вот говорят еще, что хотя эти принципы правильны, однако простой народ не обладает в достаточной степени умственными способностями, чтобы его можно было просветить на их счет. Я был бы очень рад, если бы богатые и могущественные подданные какого-либо королевства или те, которые считаются наиболее учеными, оказались менее неспособными, чем простой народ. Но все люди знают, что помехой признанию этого рода учения служат не трудности его содержания, а интересы тех, кто должен ими проникнуться. Сильные люди с трудом переваривают что-либо, клонящееся к установлению власти, которая обуздывала бы их страсти, а ученые люди не мирятся с учением, которое обнаруживает их ошибки и этим умаляет их авторитет, между тем как умы простых людей, если они не коррумпированы зависимостью от сильных и не замараны мнениями ученых, представляют собой чистую бумагу, способную воспринимать все, что государственная власть на ней запечатлеет. Если целым народам можно было внушить убеждение в истинности великих таинств христианской религии, которые выше человеческого разума, а миллионам людей внушить веру в то, что одно и то же тело может находиться одновременно в бесчисленных местах, что против разума, то разве не могут люди учением и проповедью, покровительствуемыми государством, заставить признать учение, в такой степени согласное с разумом, что всякому непредубежденному человеку стоит лишь прислушаться к нему, чтобы проникнуться им? Я поэтому заключаю, что, пока суверен удерживает за собой всю полноту власти, затруднения с просвещением народа насчет существенных прав верховной власти, которые являются естественными и основными законами, могут быть созданы лишь ошибками самого суверена или тех, кому он доверил управление государством. Следовательно, долг суверена заставить просвещать народ насчет этих прав; и этого требуют не только его долг, но и интересы его блага и безопасности, ибо лишь этим он может предотвратить ту опасность, которая грозит ему лично от восстания.
И, чтобы перейти к частностям, народ следует просвещать насчет того, во-первых, что он не должен увлекаться формами правления, которые он наблюдает у соседних народов, больше, чем своей собственной формой правления, и что он не должен стремиться к изменению своей собственной формы правления (какое бы благоденствие он ни наблюдал у народов, управляемых иначе, чем он). Ибо благоденствие народа, управляемого аристократическим или демократическим собранием, обусловлено не аристократической или демократической формой правления, а послушанием и согласием подданных; и в монархии народ процветает не потому, что право управлять им принадлежит одному человеку, а потому, что народ повинуется этому человеку. Устраните в каком-либо государстве послушание народа (и, следовательно, и его внутреннее согласие), и народ не только не будет процветать, но в короткое время погибнет. И те, которые своим неповиновением намереваются лишь реформировать государство, найдут, что они его этим разрушили, и они очутятся, таким образом, в положении глупых дочерей Пелая, которые, как гласит легенда, желая омолодить своего дряхлеющего отца, разрубили его, по совету Медеи, на куски и сварили вместе с какими-то дикими травами, но этим не сделали из него нового человека. Это стремление к изменению существующей в государстве формы правления есть как бы нарушение первой заповеди Бога, которая гласит: Non nabebis deos alienos – да не будет у тебя богов других народов; а в другом месте Бог говорит о царях, что они боги.
Следует, во-вторых, внушать народу, что он не должен поддаваться своему восторгу перед доблестью кого-нибудь из своих сограждан, какое высокое положение последний ни занимал бы и как бы ярко ни блистала его слава в государстве, или перед доблестью какого-нибудь собрания (за исключением верховного) так, чтобы оказывать им то повиновение и те почести, которые приличествует оказывать лишь суверену (которого они в своей специальной сфере компетенции представляют), а также что он должен поддаваться их влиянию лишь постольку, поскольку они проводят влияние верховной власти. Ибо нельзя себе представить, чтобы любил свой народ как следует тот суверен, который не ревнует его и терпит, чтобы он, соблазненный лестью популярных людей, был совращен с пути лояльности, как он часто бывал не только тайно, но и открыто, доходя в этом отношении до того, что устами проповедников прокламировал in facie ecclesiae (перед всем честным народом) и провозглашал среди улицы свой брачный союз с этими популярными людьми, что можно без натяжки сравнивать с нарушением второй из десяти заповедей.
В-третьих, как следствие из этого народ должен быть информирован о том, каким большим преступлением является дурно отзываться о суверене (будь то один человек или собрание людей), или рассуждать и спорить о его власти, или так или иначе непочтительно употреблять его имя, так как всем этим суверен может быть унижен в глазах его народа и может быть поколеблена лояльность народа (в котором заключается спасение государства), каковое учение представляет собой аналогию третьей заповеди.
В-четвертых, ввиду того что народ не может учиться, а если учился, не может запомнить, а по прошествии поколений не может даже знать, кому принадлежит верховная власть, без того чтобы время от времени не отложить в сторону своих обычных занятий и слушать тех, кто назначен просвещать его, то необходимо, чтобы были установлены такие промежутки времени, в которые народ мог бы собираться и (по вознесении молитв и хвалы Богу, царю царей) слушать поучение о своих обязанностях, а также чтение и толкование положительных законов, поскольку они касаются всех подданных, и напоминание о той власти, благодаря авторитету которой они становятся законами. В этих целях евреи имели каждый седьмой день субботним днем, в который им читался и толковался закон и торжественность которого напоминала им, что их царем является Бог, который, сотворив мир в шесть дней, в седьмой день почил. А отдых от всякой работы напоминал им о том, что царем их является тот Бог, который вывел их из Египта – страны рабства – и дал им время, когда они могут после торжественного богослужения сами наслаждаться законным покоем. Первая скрижаль Завета таким образом вся заполнена изложением содержания абсолютной власти Бога, не только как Бога, но и как царя в силу Завета, заключенного (в отличие от всех других народов) с евреями, и эта скрижаль Завета может служить всем суверенам в силу их договора с людьми указанием, чему они должны учить своих подданных. А так как первоначальное обучение детей предоставлено заботам их родителей, необходимо, чтобы дети, пока они находятся под опекой родителей, были послушны по отношению к последним, а также и потом (как этого требует долг благодарности) признавали бы внешними знаками почтения благодеяния, оказанные им воспитанием. С этой целью надо детям внушить, что вначале отец всякого человека был также его сувереном, его властелином, имевшим власть над его жизнью и смертью, и хотя по установлении государства отцы семейств отреклись от этой абсолютной власти, однако никогда не имелось в виду, чтобы они теряли право на то уважение, которое они заслужили от своих детей своими заботами об их воспитании. В самом деле, отказ от такого права вовсе не требовался в целях установления суверенной власти; да и не было бы побудительных мотивов у людей к тому, чтобы иметь детей и заботиться об их содержании и воспитании, если бы они впоследствии имели от них не больше благодеяний, чем от прочих людей. И это согласуется с пятой заповедью.
Всякий суверен обязан, кроме того, заботиться о том, чтобы учили народ справедливости (принцип которой гласит, что нельзя отнимать ни у кого того, что ему принадлежит), то есть заботиться о том, чтобы людям было внушено не отнимать у своих соседей насилием и хитростью чего-либо, принадлежащего им на основании права, признанного сувереном. Из объектов права собственности наиболее дорогими являются для человека его собственная жизнь и члены его тела, следующим по степени является (для большинства людей) то, что относится к супружеской привязанности, а затем богатство и средства к существованию. Поэтому следует внушать людям, чтобы они воздержались от совершения из частной мести насилия над личностью друг друга, от покушения на супружескую честь и от насильственного похищения и мошеннического присвоения имущества друг друга. В этих же целях необходимо показать людям последствия неправедного суда вследствие коррупции или судей, или свидетелей, кои последствия сводятся к тому, что теряется всякое понятие о собственности и правосудие перестает оказывать какое бы то ни было действие. Все эти принципы содержатся в шестой, седьмой, восьмой и девятой заповедях.
Наконец, надо людям внушать, что не только незакономерные деяния, но и намерения совершать их (хотя случайно неосуществленные) являются беззаконием. Ибо беззаконие заключается в порочности воли, точно так же как в преступности деяния. И это есть смысл десятой заповеди и содержание второй скрижали, которое резюмируется целиком в заповеди взаимной любви: люби ближнего, как самого себя, подобно тому, как содержание первой скрижали резюмируется в заповеди любви к Богу, которого евреи незадолго перед этим поставили царем над собой.
Что же касается средств и путей для проведения этих принципов в сознание людей, то мы должны исследовать, какими средствами укоренялись в сознании людей столь многие взгляды, враждебные интересам мира человеческого рода, несмотря на то что они зиждутся на слабых и ложных принципах. Я имею в виду те взгляды, на которых я подробно останавливался в предшествующей главе, а именно что люди должны судить о том, что закономерно и что незакономерно, не на основании самого закона, а по указаниям своей собственной совести, то есть на основании своего частного разумения; что подданные совершают грех, повинуясь велениям государства, если они сами предварительно не признали этих велений закономерными; что право собственности подданных на свое имущество таково, что оно исключает господство государства над этим имуществом; что подданные имеют право убивать тех, кого они называют тиранами; что верховная власть может быть разделена; и все, что в этом духе может быть внушено людям указанными средствами. Люди, которых нужда или корыстолюбие заставляют всецело отдаться своим промыслам и своему труду, и, с другой стороны, люди, которых избыток средств или лень побуждают отдаваться чувственным удовольствиям, – обе эти категории людей (которые вместе составляют большую часть человеческого рода), не имея времени предаваться глубоким размышлениям, которых необходимо требует исследование истины не только в вопросах естественного права, но и во всех других отраслях знания, получают свои понятия о своем долге главным образом от теологов на кафедре и отчасти от таких своих соседей или знакомых, которые им кажутся благодаря своей способности говорить плавно и общедоступно более мудрыми и более сведущими в вопросах права и совести, чем они сами. А теологи и другие, претендующие на ученость, получают свои знания из университетов и школ права или из книг, опубликованных выдающимися представителями этих школ и университетов. Из этого очевидно, что просвещение людей зависит всецело от правильной постановки дела обучения юношества в университетах. Но разве (могут спросить некоторые) университеты в Англии не научились еще делать это? Или ты вздумал учить университеты? Серьезные вопросы. Однако, что касается первого из них, я, не колеблясь, отвечаю, что до самого конца царствования Генриха VIII власть папы поддерживалась главным образом университетами против власти государства и что тот факт, что многие учения, направленные против верховной власти короля, поддерживаются столькими проповедниками, юристами и другими людьми, получившими свое образование в университетах, достаточно ясно свидетельствует о том, что хотя университеты и не были авторами этих ложных доктрин, но они не сумели внушить своим питомцам и истинных учений. Ибо те противоречивые взгляды, которые господствуют среди этих воспитанников университетов, доказывают, что они недостаточно обучены, и не приходится удивляться тому, что они сохранили вкус того тонкого напитка, которым напоили их против гражданской власти. Что же касается второго вопроса, то мне не приличествует, да и нет необходимости для меня отвечать «да» или «нет». Ибо всякий, видящий то, что я делаю, легко может понять, что я думаю.
Безопасность народа требует, дальше, от того или тех, кто имеет верховную власть, чтобы справедливость была в одинаковой мере соблюдена по отношению к людям всех состояний, то есть чтобы как богатые и высокопоставленные, так и бедные и незаметные люди могли одинаково найти управу против чинимых им обид; и знатный человек, учиняя насилие, нанося бесчестие или какую-нибудь другую обиду человеку низшего состояния, имел бы не бóльшую надежду на безнаказанность, чем человек низкого состояния, совершивший то же самое по отношению к знатному человеку. Ибо в этом заключается принцип нелицеприятия, которому как естественному закону суверен так же подчинен, как последний из его подданных. Всякое нарушение закона есть преступление против государства, но некоторые являются преступлениями также против частных лиц. И вот те преступления, которые затрагивают только государства, могут быть прощены без нарушения принципа нелицеприятия, ибо всякий человек волен прощать учиненные ему обиды по своему усмотрению. Но обиды, учиненные по отношению к частному лицу, не могут по справедливости быть прощены без согласия обиженного или без предоставления ему разумного удовлетворения.
Неравенство подданных является следствием актов верховной власти, и поэтому оно так же не существует в присутствии суверена, то есть в суде, как неравенство между королями и их подданными не существует в присутствии царя царей. Честь высокопоставленных лиц должна оцениваться в зависимости от тех благодеяний и той помощи, которые они оказывают нижестоящим людям, или же эта честь ничего не стоит. И чинимые ими насилия, притеснения и обиды не смягчаются, а, наоборот, усугубляются высоким положением этих лиц, ибо они меньше всего совершают это из нужды. Последствия лицеприятия по отношению к знатным людям развертываются в следующем порядке. Безнаказанность рождает наглость, наглость – ненависть, а ненависть порождает усилия свергнуть всякую притесняющую и наглую знать, хотя бы и ценой гибели государства.
К равномерной справедливости относится также равномерное налоговое обложение, равенство которого зависит не от равенства богатства, а от равенства долга всякого человека государству за свою защиту. Недостаточно, чтобы человек только трудился для поддержания своего существования, он должен также сражаться (когда является необходимость) для защиты своего труда. Люди должны или поступать, как евреи при восстановлении храма после возвращения из изгнания, когда они строили одной рукой, а другой держали меч, или же они должны нанять других, чтобы сражаться за них. Ибо налоги, которыми верховная власть облагает людей, есть не что иное, как жалованье, причитающееся тем, которые держали государственный меч, чтобы защищать частных людей в их занятиях промыслами и ремеслами. Ввиду того что благо, которое всякий при этом получает, есть наслаждение жизнью, которое одинаково дорого богатому и бедному, то и долг бедного тем, которые защищают его жизнь, равновелик долгу богатого за защиту его жизни, за исключением тех случаев, когда богатые, имея на службе у себя бедных, могут быть должниками не только за свои собственные личности, но и за личности многих других. В силу сказанного равенство обложения должно определяться скорее равенством потребления, чем богатством тех лиц, которые одинаково потребляют. Ибо на каком основании должен был бы быть более обременен тот, кто работает много и, сберегая плоды своего труда, мало потребляет, чем тот, кто, живя беспечно, мало приобретает и расходует все, что он приобретает, в то время как первый получает не больше защиты от государства, чем второй? Когда же налогами облагаются те вещи, которые люди потребляют, тогда всякий платит одинаково соразмерно своему потреблению и государство не терпит убытка от расточительности частных людей.
И если многие люди вследствие неотвратимых случайностей сделались неспособными поддерживать себя своим трудом, то они не должны быть предоставлены частной благотворительности, а самое необходимое для существования должно быть им обеспечено законами государства. Ибо подобно тому, как было бы жестокостью со стороны кого-либо отказывать в поддержке беспомощному человеку, точно так же было бы жестокостью со стороны суверена-государства подвергать таких беспомощных людей случайностям неопределенной благотворительности.
Иначе обстоит дело с физически сильными людьми, ибо таких надо заставить работать, а для того, чтобы такие люди не могли отговариваться отсутствием работы, необходимо поощрять всякого рода промыслы, как судоходство, земледелие, рыболовство и все отрасли промышленности, предъявляющие спрос на рабочие руки. Если же масса бедных, но сильных людей продолжает расти, то они должны быть переселены в еще недостаточно заселенные страны, где они, однако, не должны истребить тех обитателей, которых они здесь находят, а лишь заставить их потесниться; а переселенцы сами не должны растянуться на большое пространство, захватывая все, что они находят, а каждый из них должен обрабатывать умело и старательно маленький клочок земли, который мог бы доставить ему пропитание в надлежащее время. А когда весь мир окажется перенаселенным, тогда остается как самое последнее средство война, которая заботится о всяком человеке, давая ему победу или смерть.
Суверен должен заботиться об издании хороших законов. Но что такое хороший закон? Под хорошим законом я не разумею справедливого закона, ибо никакой закон не может быть несправедливым. Закон издается верховной властью, а все, что делается этой властью, делается на основании полномочий и за ответственностью каждого из ее подданных, а то, что соответствует воле всякого человека, никто не может считать несправедливым. С законами государства дело обстоит точно так же, как с законами игры. Все, на чем договаривались все игроки, не является несправедливостью по отношению к кому бы то ни было из них. Хороший закон – это тот, который не обходим для блага народа и одновременно общепонятен.
Дело в том, что задача законов (которые являются лишь установленными верховной властью правилами) состоит не в том, чтобы удержать людей от всяких произвольных действий, а в том, чтобы дать такое направление их движению, при котором они не повредили бы самим себе своими собственными необузданными страстями, опрометчивостью и неосторожностью, подобно тому, как изгороди поставлены не для того, чтобы остановить путешественников, а для того, чтобы не дать им сбиться с дороги. Поэтому ненужный закон плох, ибо он не выполняет истинной задачи закона. Можно было бы думать, что закон хорош, когда он выгоден суверену, хотя бы он не был нужен народу, но это неверно. Ибо нельзя отделить друг от друга благо суверена от блага народа. Слаб тот суверен, который имеет слабых подданных, и слаб тот народ, суверен которого не имеет власти, чтобы управлять им по своей воле. Ненужные законы суть не хорошие законы, а ловушки в целях сбора денег, которые излишни там, где права суверенной власти признаны, и недостаточны для защиты народа там, где эти права не признаны.
Общепонятность закона зависит не столько от изложения самого закона, сколько от объявления причин и мотивов его издания. Это именно то, что показывает нам намерение законодателя, а когда намерение известно, тогда легче понять закон, изложенный в кратких словах, чем многословный. Ибо все слова подвержены двусмысленности, и поэтому умножение слов есть также умножение двусмысленности. Многословный закон, кроме того, дает повод к ошибочному предположению, будто стоит лишь старательно обойти букву закона, чтобы не попасть под его действие. И это является причиной многих ненужных процессов. Ибо когда я представляю себе, как кратко составлялись законы в древние времена и как они постепенно становятся все более и более многословными, то я как будто вижу перед собой состязание между составителями закона и тяжущимися сторонами, при котором первые стараются ограничить последних, а последние стараются обойти ограничения, причем мне представляется, что победу одержали тяжущиеся стороны. На обязанности законодателя (каковым бывает во всяком государстве верховный представитель, будь то один человек, будь то собрание) лежит поэтому сделать очевидной цель закона, а самый закон формулировать кратко, но возможно более точно и выразительно.
На обязанности суверена лежит также правильное применение наказаний и правильное распределение вознаграждений. И ввиду того что целью наказания являются не месть и излияние гнева, а исправление или самого преступника, или других людей устрашающим примером наказания, то наиболее суровые наказания должны быть наложены за такие преступления, которые наиболее опасны для государства. Таковы, например, преступления, имеющие своим источником стремление к низвержению установленного образа правления, преступления, возникающие из презрения к правосудию, преступления, возбуждающие негодование широкой массы, и такие преступления, которые, оставаясь безнаказанными, представляются совершенными с разрешения верховной власти, а именно преступления, совершенные сыновьями, слугами или любимцами представителей верховной власти. Ибо негодование, вызываемое у людей преступлением, обращается не только против непосредственных исполнителей преступного деяния и их подстрекателей, но и против всякой власти, которая может быть заподозрена в том, что она покровительствует им, как, например, в случае с Тарквинием, который за наглый поступок одного из своих сыновей был изгнан из Рима, после чего и сама монархия была свергнута. В отношении же преступлений, проистекающих из слабости, как преступления, совершенные в запальчивости и раздражении, в паническом страхе, вследствие большой нужды или вследствие незнания, является ли деяние большим преступлением или нет, – в отношении таких преступлений может быть во многих случаях дано снисхождение без всякого вреда для государства. А там, где такое снисхождение может быть дано, оно диктуется естественным законом. В случае бунта государству может принести пользу как устрашающий пример лишь наказание коноводов и идейных вдохновителей, а не наказание совращенных темных людей. Выть суровым к последним значит наказывать невежество, в котором в значительной части виновен суверен, не принявший мер к тому, чтобы они были лучше просвещены.
Точно так же лежит на обязанности суверена награждать всегда таким образом, чтобы это имело благодетельные последствия для государства. Ибо в этом заключаются польза и цель вознаграждений. И эта цель достигнута в том случае, когда те, которые хорошо служили государству, с возможно минимальными затратами государственных средств так хорошо вознаграждаются, что этим создается стимул для других: во-первых, всеми силами честно и верно служить государству и, во-вторых, приобрести те знания, которые сделали бы их способными служить ему еще лучше. Подкуп деньгами или повышением в чине какого-нибудь популярного и честолюбивого подданного, с тем чтобы он вел себя мирно и воздержался от зловредной агитации среди народа, не имеет характера вознаграждения (которое дается не за причиненный в прошлом вред, а за прошлые заслуги) и является знаком не благодарности, а страха, и последствия его для государства не благодетельны, а вредны. Такая борьба с честолюбием напоминает борьбу Геркулеса с чудовищем гидрой, которая имела много голов и вместо каждой отсеченной головы вырастали уже три новые. Ибо точно так же и здесь: стоит утихомирить наградами одного популярного человека, как (под влиянием соблазнительного примера) появляется много других, совершающих то же зло в надежде на подобное благо. И как все отрасли мануфактуры, так и злые умыслы растут при наличии сбыта. И хотя гражданская война и может быть отсрочена иногда такими средствами, опасность ее становится еще большей, и развал государства еще более неминуемым. Несовместимо поэтому с долгом суверена, которому поручена безопасность государства, награждать тех, которые в целях достижения власти нарушают мир своей страны, и не противодействовать им предпочтительнее при самом начале их преступной деятельности, когда опасность еще не велика, чем долгое время спустя, когда опасность становится большой. Сверх всего сказанного заботе суверена подлежит еще выбор хороших советников. Я разумею таких, советом которых он должен воспользоваться при управлении государством. Ибо слово «совет» (по-латыни consilium, произведенное путем искажения от слова considium, что означает заседание) имеет обширное значение и охватывает всякое собрание людей, заседающих вместе и не только обсуждающих то, что следует делать в будущем, но и творящих суд над прошлыми фактами и решающих, какие законы нужны в настоящем.
Я беру это слово здесь лишь в первом значении. И в этом смысле не может идти речь о выборе совета ни в демократии, ни в аристократии. Ибо в этого рода государствах советники являются членами того лица, которому советы даются. О выборе советников может идти речь поэтому лишь в монархии. И при этой форме правления суверен не исполняет своего долга как следует, если он не стремится выбрать таких советников, которые являются во всех отношениях наиболее пригодными. Наиболее пригодными являются те советники, которые меньше всего могут надеяться на получение выгоды от дачи плохого совета и которые наиболее сведущи в вопросах, имеющих отношение к миру и к защите государства. Трудно определить, кто именно ждет для себя выгоды от смуты в государстве, однако имеются признаки, дающие повод к основательному подозрению, а именно: если люди, состояние которых недостаточно, чтобы покрыть их обычные расходы, подлаживаются к народу, выражая ему свое сочувствие при всех его неразумных жалобах и во всех его неисцелимых горестях, – что может быть легко замечено теми, кому это ведать надлежит. Однако еще труднее определить, кто именно является наиболее сведущим в государственных делах, а тот, кто это умеет определить, нуждается меньше всего в совете таких людей, ибо для того, чтобы уметь определить того, кто знает правила какого угодно искусства, необходимо обладать в значительной степени знанием этого самого искусства, так как никто не может быть уверен в истинности правил другого, если он сам не научился сначала понимать их. Но лучше всего свидетельствует о знании какого-нибудь искусства долголетнее занятие им с неизменным успехом. Способность давать хороший совет не получается путем жребия или по наследству, поэтому ждать хорошего совета от богатого или знатного человека в делах государства можно не с большим основанием, чем при набросании плана крепости, разве только мы будем думать, что для изучения политики не требуется никакого метода (как это требуется при изучении геометрии), а достаточно быть зрителем, что, однако, неверно. Ибо из указанных нами двух наук политика является наиболее трудной. И если в этих частях Европы стало правом определенных лиц занимать место в высшем совете государства по наследству, то это перешло к нам из эпохи завоеваний германцев, когда многие самостоятельные князья объединились вместе, чтобы завоевать другие народы. А эти князья не вступили бы в конфедерацию без таких привилегий, которые в последующее время должны были бы отличить их потомство от потомства их подданных. Так как эти привилегии несовместимы с правами верховной власти, то указанные лица могут удержать их лишь в качестве особой милости суверена. Но если бы они стали настаивать на них как на своем праве, то они неминуемо должны были бы терять их постепенно и в конце концов иметь лишь те отличия, на которые им дают право их способности.
И как бы способны ни были советчики в каком-нибудь деле, они приносят больше пользы тогда, когда каждый из них в отдельности дает свой совет и указывает его основания, чем тогда, когда они делают это в собрании в форме ораторских выступлений, и приносят больше пользы тогда, когда они предварительно обдумали свой совет, чем тогда, когда они говорят экспромтом, так как в обоих этих случаях они имеют больше времени для того, чтобы предусмотреть последствия обсуждаемого действия, и менее влекомы к противоречивым мнениям завистью, соревнованием и другими страстями, проистекающими из различия мнений.
Лучший совет в вещах, касающихся не других народов, а лишь тех удобств и благ, которые подданные могут получить благодаря законам, регулирующим лишь внутренние отношения государства, может быть, почерпнут из общих информаций и жалоб людей каждой провинции, которые лучше всего знакомы со своими собственными нуждами и требования которых поэтому, если только они не клонятся к умалению прав верховной власти, должны быть серьезно приняты во внимание. Ибо без этих существенных прав (как я уже часто раньше на это указывал) государство вообще не может существовать.
Если главнокомандующий армией не популярен, то армия не будет любить и не будет бояться его, и, следовательно, он не сможет с успехом выполнять свои обязанности. Он должен быть поэтому умным, храбрым, приветливым, щедрым и удачливым для того, чтобы в армии о нем составилось мнение как о соответствующем своему назначению и любящем своих солдат предводителе. Это и есть популярность, и она порождает у солдат мужество и желание заслужить его благоволение и позволяет генералу проявить суровость в случае необходимости при наказании мятежных или нерадивых солдат. Но эта любовь солдат (при отсутствии залога верности командира) опасна для верховной власти, особенно в тех случаях, когда эта верховная власть находится в руках непопулярного собрания. Безопасность народа требует поэтому, чтобы те, кому суверен поручает свои армии, были одновременно хорошими полководцами и верными подданными.
Если же сам суверен популярен, то есть пользуется уважением и любовью своего народа, тогда популярность какого-нибудь подданного не представляет никакой опасности. Ибо солдаты никогда не бывают настолько несправедливы, чтобы принять сторону своего полководца, хотя они иногда и выступают против своего суверена, когда они любят не только личность полководца, но и его дело. И поэтому те, которые когда-либо насильственно свергали власть своего законного суверена, старались, прежде чем сесть на его место, сочинить для себя какие-нибудь права на это, для того чтобы народу не совестно было принять их. Иметь заведомое право на верховную власть является настолько популярным качеством, что тому, кто обладает им, требуется в отношении его самого для завоевания сердец своих подданных, лишь чтобы подданные видели его абсолютно способным управлять своей собственной семьей, а в отношении его врагов – лишь распущение их армии. Ибо наибольшая и наиболее активная часть человеческого рода никогда не была до сих пор довольна настоящим1.
1 Весь этот абзац неясен в английском тексте оригинала и переведен здесь дословно. В латинском тексте соответствующее место гласит в переводе следующим образом: «Если же тот, кто обладает верховной властью, сам популярен, то ему не грозит никакой опасности от популярности кого бы то ни было и в его подданных. Ибо мы нигде не читаем, чтобы солдаты когда-либо шли за своим даже любимым полководцем против своего короля, если только они не питают ненависти к его личности или к какому-нибудь совершенному им деянию. Явное право на власть само по себе настолько популярно, что его одного достаточно, чтобы привлекать сердца подданных». [Прим. переводчика.]
Что касается обязанностей одного суверена к другому, о чем трактует та часть права, которую обыкновенно называют международным правом, мне не приходится здесь ничего сказать, так как международное право и естественное право – одно и то же. И всякий суверен при обеспечении безопасности своего народа имеет то же право, которое может иметь любой частный человек при обеспечении безопасности своего тела. И тот же закон, который диктует людям, не имеющим гражданского правления, что они должны делать и чего они должны избегать в отношении друг друга, диктует то же самое государствам, то есть совести монархов и верховных собраний, так как судилище естественного нрава находится в совести, где царствует не человек, а Бог. А законы Бога (те из них, которые обязывают весь человеческий род) как Бога – творца природы являются естественными, а как того же Бога – царя царей являются законами. Однако о царстве Бога как царя царей и как царя отдельного народа я буду говорить в следующей части этого трактата.
Глава XXXI
О царстве бога при посредстве природы
В предшествующей части этого трактата я уже достаточно ясно показал, что естественное состояние, то есть состояние абсолютной свободы, в каковом пребывают те люди, которые не являются ни суверенами, ни подданными, есть анархия и состояние войны; что правила, которыми люди руководятся в целях избежания этого состояния, суть естественные законы; что государство без верховной власти есть слово без содержания, и такое государство не может существовать; что подданные обязаны своим суверенам безусловным повиновением во всем, в чем их повиновение не противоречит законам Бога. Для полного познания гражданского долга остается лишь выяснить, каковы законы Бога. Ибо без этого человек, когда гражданская власть ему приказывает что-нибудь, не знает, противоречит ли это приказание божественному закону или нет, и, таким образом, или слишком далекоидущим повиновением оскорбляет величество Бога, или из боязни оскорбить Бога нарушает постановления государства. Чтобы избегнуть обоих этих подводных камней, необходимо знать, каковы законы Бога. И ввиду того, что знание всякого закона зависит от знания верховной власти, я в следующем скажу кое-что о Царстве Божьем.
Господь царствует, да радуется земля 1, говорит псалмопевец, и дальше2, Господь царствует, да трепещут народы! Он восседает на херувимах, да трясется земля! Хотят ли этого люди или нет, но они всегда вынуждены подчиняться божественной власти. Отрицанием существования или промысла Бога люди могут погубить свое душевное спокойствие, но не могут сбросить свое ярмо. Но называть царствованием эту власть Бога, которая простирается не только на человека, но и на животных, растения и неодушевленные предметы, можно лишь в метафорическом употреблении этого слова. Ибо о царствовании в настоящем смысле этого слова можно говорить лишь в отношении того, кто управляет своими подданными при помощи своих слов и посредством обещания награды тем, кто повинуется этим словам, и угрозы наказания тем, кто им не повинуется. Подданными Царства Божия не являются поэтому ни неодушевленные тела, ни неразумные существа, так как они не понимают никаких правил как правила Бога; подданными этого царства не могут быть также атеисты и люди, которые полагают, что Бог не заботится о человеческих действиях, ибо и те, и другие не признают какого-либо слова Божьим словом, не надеются на его вознаграждение и не боятся его угроз. Подданными Бога являются поэтому лишь те, которые веруют, что существует Бог, который управляет миром и дал правила и установил награды и наказания для человеческого рода. Всех остальных надо считать врагами Бога.
1 Псалтирь, 96, 1.
2 Псалтирь, 98, 1.
Для того чтобы управлять при помощи слов, требуется, чтобы такие слова были в ясной форме объявлены, без чего они не могут быть законами, ибо существенным свойством закона является его достаточное и ясное опубликование, такое, которое отняло бы всякую возможность оправдываться его незнанием. В отношении человеческих законов такое опубликование может совершаться лишь в одной определенной форме, а именно в форме прокламирования человеческим голосом. Господь же объявляет свои законы тремя путями: внушением естественного разума, откровением и голосом какого-нибудь человека, верить которому Бог заставляет остальных людей путем совершения чудес. Отсюда три вида слов Божьих: разумное, чувственное и пророческое, которым соответствует троякого рода слух: истинный разум, сверхъестественное чувство и вера. Что касается сверхъестественного чувства, заключающегося в откровении и вдохновении, то универсальные законы не были даны этим путем, ибо в такой форме Бог говорит лишь отдельным людям, причем разным людям разное.
Соответственно, различию между двумя другими видами слова Божьего, разумным и пророческим, Богу может быть приписана двоякая форма царствования – естественная и пророческая. Естественная, при которой Он управляет теми представителями человеческого рода, которые признают Его провидение в силу внушений истинного разума; и пророческая, при которой Он, избрав своими подданными определенный народ (евреев), управляет им, и только им, не только при помощи естественного разума, но также посредством положительных законов, данных этому народу устами своих святых пророков. О естественной форме царствования Бога я намерен говорить в этой главе.
Естественное право, при помощи которого Бог царствует над людьми и наказывает тех, кто нарушает Его законы, должно быть произведено не из факта сотворения людей Богом, как если бы Бог требовал повиновения как благодарности за Его благодеяния, а должно быть произведено из Его непреодолимого могущества. Я показал раньше, как верховная власть возникает из договора. Для того чтобы показать, как такая власть может возникнуть из природы, остается только показать, в каком случае эта власть никогда не прекращается. Мы видим, что люди от природы имели право на все, следовательно, каждый из них имел право царствовать над всеми остальными. Но так как это право не могло быть осуществлено силой, то безопасность каждого требовала, чтобы люди отказались от этого права и общим соглашением всех поставили бы над собой людей (облеченных верховной властью), которые управляли бы ими и защищали их. Однако если бы среди них оказался человек непреодолимой силы, то не было никакого основания к тому, чтобы этот человек благодаря своей силе не управлял ими и не защищал как себя, так и их по собственному усмотрению. Поэтому тем, чья сила непреодолима, власть над всеми людьми присуща от природы благодаря превосходству их силы, и, следовательно, именно этой силой обусловлено то обстоятельство, что царствование над людьми и право сокрушать людей по своему произволу принадлежат Богу всемогущему не как творцу и милосердному, а именно как всемогущему. И хотя наказанию человек должен был бы подвергнуться лишь за грех, так как под этим словом подразумевается причинение страдания за грех, право причинять страдание имеет своим основанием не всегда человеческий грех, а часто могущество Господа.
Много споров вызывал у древних вопрос: почему порочные люди часто преуспевают, а праведные люди терпят невзгоды? Вопрос этот совпадает с вопросом, обсуждаемым в наше время, а именно: п о какому принципу Бог распределяет блага и невзгоды земной жизни? Вопрос этот настолько труден, что он поколебал веру в божественное провидение не только у простых людей, но и у философов, больше того, даже у святых. Как благ Бог (говорит Давид)1 к Израилю, к чистым сердцам! А я – едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. А как горько упрекает Бога Иов за обрушившиеся на него многочисленные несчастья, несмотря на его непорочность. В случае с Иовом Бог сам решает этот вопрос, аргументируя не грехом Иова, а своим собственным могуществом. Ибо после того, как друзья Иова из факта его страданий заключали о его грехе, а он защищался сознанием своей непорочности, Бог сам вмешался в спор и, оправдывая обрушенные на голову Иова несчастья такими доводами своего могущества, как2 где был ты, когда полагал Я основания земли? и подобными, признал этим как непорочность Иова, так и ошибочность учений его друзей. Этому учению соответствуют слова нашего Спасителя, сказанные по поводу человека, слепого от рождения: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
1 Псалтирь, 72, 1, 2, 3.2 Иов, 38, 4.
И хотя говорится, что смерть пришла в мир через грех (подразумевая под этим, что, если бы Адам не согрешил, он не умер бы, то есть его душа никогда не покидала бы его тела), но из этого не следует, что Бог не мог бы по праву сокрушить его, если бы он и не согрешил, как Он сокрушает другие живые существа, которые не могут грешить.
После этого, что мы сказали о суверенности Бога, поскольку она зиждется на одной природе, мы должны в первую очередь рассмотреть, что представляют собой божественные законы или внушения естественного разума, каковые законы касаются или естественных обязанностей одного человека к другому, или того почитания, которым мы естественно обязаны по отношению к нашему божественному суверену. Первые суть те самые естественные законы, о которых я говорил уже в главах XVI и XV этого трактата, а именно нелицеприятные, справедливость, милосердие, смирение и другие нравственные качества. Нам остается поэтому рассмотреть, какие правила диктуются людям одним только их естественным разумом без другого слова Божьего в отношении почитания и поклонения величию Бога.
Почитание состоит во внутренней мысли и во мнении о силе и доброте другого, и соответственно этому почитать Бога – значит быть самого высокого мнения о Его силе и доброте. И внешние признаки этого мнения, выраженные в словах и действиях людей, называются богослужением, которое составляет часть того, что римляне подразумевали под словом cultus. Ибо слово cultus по своему точному и твердому смыслу обозначает труд, которые человек прилагает к какой-нибудь вещи в целях получения какой-нибудь выгоды для себя. Вещи же, из которых мы извлекаем выгоду для себя, или подвластны нам, и выгода, которую они нам предоставляют, следует за примененным к ним трудом как естественное следствие, или они не подвластны нам и воздают нам за наш труд так, как это им самим желательно. В первом смысле труд, примененный к земле, называется культурой, а воспитание детей называется культивированием их умов. Во втором смысле, когда людские воли должны быть обработаны в наших целях не силой, а угодливостью, это слово означает то же, что ухаживание, то есть завоевание благорасположения добрыми услугами, как, например, похвалами, признанием их силы и всем тем, что может нравиться тем людям, от которых мы ждем для себя выгоды. И это и есть поклонение в собственном смысле слова. И в этом смысле под словом publicola подразумевается тот, кто поклоняется народу, а под cultus dei – поклонение Богу.
Из внутреннего почитания, состоящего в мнении о силе и доброте, возникают три страсти: любовь, имеющая отношение к доброте, и надежда и страх, имеющие отношение к силе, а также три внешние формы поклонения: восхваление, превознесение и благословение. Объектом восхваления является доброта, а объектом превознесения и благословения – сила и ее следствие – счастье. Восхваление и превознесение выражаются как словами, так и действиями: словами, когда мы говорим, что человек добр или велик; действиями, когда мы благодарим его за его благость и повинуемся его власти. Мнение же о счастье другого может быть выражено лишь словами.
Некоторые знаки почитания (выраженные как атрибутами, так и действиями) являются таковыми по своей природе, как, например, атрибуты: добрый, справедливый, щедрый и т. п., и из действий: молитвы, благодарности и повиновения. Другие же являются такими знаками вследствие установления или в силу людского обычая, и в одни времена и в одних местах они считаются знаками уважения, в другие времена и в других местах – знаками неуважения, а еще в иные времена и в иных местах они являются индифферентными. Таковы, например, жесты при приветствиях, просьбах и выражениях благодарности, каковые жесты бывают различны в разные времена и в разных местах. Первые являются естественными, вторые – произвольными формами поклонения.
Произвольные формы поклонения бывают двоякого рода. Ибо иногда это предписанная, иногда же добровольная форма поклонения. Предписанная тогда, когда этой формы требует тот, кому поклоняются, свободная тогда, когда поклоняющийся выбирает ее по своему усмотрению. Если она предписана, тогда поклонение заключается не в словах и жестах, а в акте повиновения; если же она свободно избрана, то вопрос о том, соответствует ли она или не соответствует своей цели, зависит от мнения зрителей. Ибо если слова и действия, при помощи которых мы намерены оказать уважение, кажутся зрителям смешными и оскорбительными, тогда эти слова и действия не выражают поклонения, так как они не являются знаками уважения, а знаками уважения они не являются потому, что знак есть знак не для того, кто его делает, а для того, кому он делается, то есть для зрителя.
Чествование может быть сверх того государственным и частным. Государственным является то чествование, которое совершает государство как единое лицо, частное такое, какое совершает частное лицо. Государственное чествование является свободным в отношении государства в целом, но не в отношении отдельных лиц. Частное чествование свободно лишь тогда, когда оно происходит втайне. Если же оно происходит на глазах толпы, оно всегда подчиняется некоторым ограничениям, налагаемым на него или законами, или общественным мнением, что несовместимо с природой свободы.
Чествование среди людей имеет своей целью власть. Ибо когда человек видит, что другому воздаются почести, то он считает этого другого могущественным и охотнее подчиняется ему, что увеличивает власть последнего. Но у Бога таких целей нет: поклонение Ему диктуется нам нашим долгом, а в выборе форм этого поклонения мы руководствуемся в соответствии с нашим пониманием теми правилами воздавания почестей, которые разум диктует слабым людям, чествующим более сильных в надежде получить от них какое-нибудь благо, из боязни вреда от них или в благодарность за уже полученное от них благодеяние.
Для того чтобы мы могли знать, какого рода поклонение Богу диктует нам естественный разум, я начну с Его атрибутов. Очевидно прежде всего, что мы должны приписать Богу существование, ибо никто не может иметь намерение воздавать почести тому, что он считает Несуществующим.
Во-вторых, недостойно говорили о Боге и отрицали Его существование те философы, которые утверждали, что Бог есть мир или душа мира. Ибо под Богом мы понимаем причину мира, а сказать, что мир есть Бог, – значит сказать, что мир не имеет причины, то есть что Бога нет. В-третьих, сказать, что мир не был создан, а существует предвечно, – значит отрицать существование Бога (ибо то, что предвечно, не имеет причины). В-четвертых, те, которые приписывают Богу покой, отрицают за Ним заботу о человеческом роде и этим лишают его уважения, ибо такой взгляд отнимает у Бога человеческую любовь к нему и человеческий страх перед Ним, которые являются корнем уважения. В-пятых, сказать о Боге, что Он конечен в тех вещах, которые означают величие и могущество, – значит не почитать Его. Ибо не свидетельствует о нашей воле почитать Бога, если мы приписываем Ему меньше, чем мы можем, а конечное есть меньше, чем мы можем, ибо к конечному легко прибавить больше.
Поэтому приписывать Богу какую-нибудь форму есть неуважение к Нему, ибо всякая форма конечна.
Неуважением к Богу является также сказать, что мы представляем Его себе или имеем о Нем идею в нашем уме, ибо все, что мы себе представляем, конечно.
Нельзя также приписывать Богу части или целость, ибо все это атрибуты конечных вещей. Нельзя также сказать, что Бог находится в этом или в том месте, ибо все, что находится в каком либо месте, ограничено и конечно.
Нельзя также говорить о Боге, что Он находится в движении или в покое, ибо оба эти атрибута приписывают Ему место.
Нельзя также говорить, что имеется больше одного Бога, ибо это предполагает, что они все конечны, так как не может быть больше одного бесконечного.
Нельзя также приписывать Богу страсти (разве лишь метафорически, разумея не самые страсти, а их эффект), имеющие характер огорчения, как раскаяние, гнев, сострадание, или характер нужды, как наклонность, надежду, желание, или характер пассивной способности, ибо страсть есть сила, ограниченная чем-то другим.
Поэтому когда мы приписываем Богу волю, то это не следует понимать по аналогии с человеческой волей как разумную склонность, а лишь как силу, способную произвести все.
Точно так же не следует понимать по аналогии с человеком, когда мы приписываем Богу зрение и другие акты ощущения; равным образом, когда приписываем Ему познание или понимание, ибо в человеке это означает лишь волнение в уме, вызванное внешними вещами, давящими на органические части человеческого тела, что неприменимо к Богу, а так как это вещи, зависящие от естественных причин, то они не могут быть приписаны Богу.
Всякий, кто хочет приписать Богу лишь то, что оправдывается естественным разумом, должен употреблять или такие негативные атрибуты, как бесконечный, вечный, непостижимый, или превосходную степень таких прилагательных, как высочайший, величайший и т. п., или неопределенные слова, как благостный, справедливый, святой, создатель, причем употреблять их не в том смысле, чтобы объявить этим, каков Бог (ибо это значило бы ограничить его рамками нашей фантазии), а лишь в том смысле, чтобы выразить свое благоговение перед Ним и свою готовность повиноваться Ему, что является знаком смирения и желания почитать Его так, как только мы можем. Ибо для обозначения нашего понятия о Его природе существует лишь одно имя, именно Я есмь, а для обозначения Его отношения к нам – лишь имя Бог, в котором содержатся понятия Отца, Царя и Господа.
Что касается действий, в которых должно выражаться богопочитание, то наиболее общим правилом разума является, что они должны свидетельствовать о намерении оказать уважение Богу. Такими знаками уважения являются прежде всего молитвы. Ибо принято думать, что не граверы, делающие изображения богов, делают последних богами, а те люди, которые молятся им. Во-вторых, благодарственные молебны, отличающиеся от молитв лишь тем, что молитвы предшествуют благодеянию, а благодарственные молебны следуют за благодеянием, причем оба имеют целью признать Бога виновником всех благодеяний, как прошлых, так и будущих.
Выражением уважения являются, в-третьих, дары, то есть посвящения и жертвоприношения (если они приносятся из наилучшего, что человек имеет), так как они служат выражением благодарности.
Естественным знаком уважения служит, в-четвертых, клясться только именем Бога, ибо в этом выражается признание, что один лишь Бог знает сердце человека и что ни человеческий ум, ни его физическая сила не могут защищать человека против мести Бога клятвопреступникам.
К разумному почитанию Бога относится, в-пятых, осторожно говорить о Нем, ибо это свидетельствует о страхе Божьем, а страх есть признание Его силы. Отсюда следует, что имя Бога не должно быть употреблено опрометчиво и без всякой цели, ибо это то же, что употреблять его всуе. А не бесцельно оно употребляется лишь в присяге по приказанию государства в целях вынесения правильного судебного решения или в присягах между государствами в целях избежания войны. А спорить о естестве Бога несовместимо с Его честью. Ибо предполагается, что в этом естественном царстве Бога нельзя познать что-либо иным путем, как лишь путем естественного разума, то есть из принципов естественного знания. А это знание настолько далеко от того, чтобы объяснить нам что-либо в отношении божественного естества, что оно не в состоянии объяснить нам ни нашей собственной природы, ни природы малейшего живого существа. И поэтому, когда люди, исходя из принципов естественного разума, спорят о божественных атрибутах, то они лишь хулят Бога. Ибо атрибутам, которые мы приписываем Богу, мы не должны придавать значения как философским истинам, а должны видеть в них лишь выражение нашего благочестивого намерения воздать Богу величайшую честь, какую мы способны воздать. Благодаря непониманию этого возникли те тома, содержащие споры о божественном естестве и отражающие стремление не к возвеличению Бога, а к возвеличению нашего собственного разума, учености и являющиеся лишь необдуманным и напрасным злоупотреблением его святым именем.
В-шестых, в отношении молитв, благодарственных молебнов, посвящений и жертвоприношений естественный разум диктует, чтобы каждая из этих форм богопочитания была в своем роде наилучшей и наилучше символизировала воздаваемую нами честь. Так, например, чтобы молитвы и благодарственные молебны были составлены не в небрежных, легкомысленных и грубоватых, а в красивых и хорошо расположенных словах и фразах. Ибо иначе мы не воздаем Богу столько чести, сколько мы можем. И поэтому язычники поступали абсурдно, поклоняясь изображениям как богам, но то, что они сопровождали свое богослужение музыкой, вокальной и инструментальной, было разумно. Точно так же соответствовало разуму как свидетельство о намерении славить Бога то обстоятельство, что их жертвоприношения, дарения и другие их действия при богослужении выражали собой покорность и служили напоминанием о полученных благодеяниях.
Разум, в-седьмых, внушает прославлять Бога не только тайно, но также и в особенности публично и на виду у людей. Ибо без этого (что наиболее важно при чествовании) теряется возможность побудить других прославлять Его.
Наконец, величайшим поклонением Богу является повиновение Его законам (то есть в этом случае естественным законам). Ибо если повиновение более приемлемо для Бога, чем жертвоприношение, то пренебрежение Его заповедями является величайшим для Него оскорблением. И таковы те законы в отношении богопочитания, которые разум диктует частным людям.
Однако, ввиду того что государство есть единое лицо, оно должно иметь единую форму культа, и это имеет место тогда, когда государство постановляет, что культ должен совершаться частными людьми публично, и это и есть государственный культ, существенным свойством которого является единообразие. Ибо действия, которые разные люди совершают различным образом, не могут называться государственным культом. И поэтому там, где допускаются различные виды культа, вытекающие из различных религий частных лиц, не существует государственного культа, и государство как таковое не имеет религии вообще.
И так как слова (и, следовательно, и атрибуты Бога) получают свое значение от соглашения и установления людей, то те атрибуты надо считать выражением уважения, которые люди намеренно устанавливают для этого. А все, что может быть сделано волей частных людей там, где нет закона, кроме разума, может быть сделано волей государства, выраженной в гражданских законах. А так как воля и законы государства суть лишь воля и законы того или тех, которые имеют верховную власть, то отсюда следует, что те атрибуты, которые суверен устанавливает для прославления Господа при отправлении культа, должны считаться единственно подходящими для указанной цели и должны употребляться частными людьми при их публичном отправлении культа.
Однако, так как не все действия являются знаками в силу установления, а некоторые являются естественными знаками уважения, другие знаками презрения, то эти последние (то есть такие, которые люди стыдятся делать в присутствии лиц, которых они уважают) не могут быть сделаны человеческой властью частью культа, а первые (заключающиеся в приличном, скромном и смиренном поведении) не могут быть исключены из культа. Но ввиду того что имеется бесконечное число действий и жестов индифферентного характера, то те из них, которые государство установит как знаки уважения и часть культа для публичного и общего употребления, должны быть приняты и употреблены в качестве таковых подданными. А если сказано в Писании: лучше повиноваться Бог у, чем людям, то это относится лишь к Царству Божьему, поскольку оно основано на заключенном завете, но не на естественном Царстве Божьем.
После этого краткого изложения своих взглядов о естественном Царстве Божьем и о его естественных законах я вкратце коснусь в этой главе лишь вопроса о его естественных наказаниях. Нет в этой жизни ни одного человеческого действия, которое не было бы началом длинной цепи последствий, обозреть которую до конца не дано ни одному человеку, как бы велика ни была его способность предвидения. И в этой цепи имеются приятные и неприятные события, в такой мере связанные друг с другом, что тот, кто сделает что-нибудь в видах своего удовольствия, должен быть готов принять на себя также и те страдания, которые связаны с этим удовольствием. И эти страдания являются естественным наказанием за те действия, в цепи последствий которых зло преобладает над благом. Таким образом, мы видим, что невоздержанность естественно наказывается страданием; опрометчивость – неудачей; нанесенные обиды – насилием врагов; гордость – гибелью; трусость – притеснением; небрежность монархов в управлении государством – восстанием; восстание – кровопролитием. Ибо так как наказания следуют за нарушением закона, то естественные наказания должны естественно следовать за нарушением естественных законов, и поэтому они следуют за ними как их естественные, а не как произвольные следствия.
И этим мы закончили изложение нашего учения об установлении, природе и о правах суверенов, а также об обязанностях подданных, поскольку это учение вытекает из принципов естественного разума. И теперь, когда я подумаю о том, насколько различно это учение от практики большей части света, особенно от практики наших западных стран, перенявших свои политические учения от Рима и Афин, а также когда я подумаю о том, какое глубокое знание моральной философии требуется от тех лиц, которые облечены верховной властью, я почти склонен верить, что этот мой труд так же бесполезен, как государство Платона. Ибо последний был тоже того мнения, что смуты в государствах и государственные перевороты путем гражданских войн не исчезнут до тех пор, пока суверенами не будут философы. Однако когда я, с другой стороны, подумаю, что наука о естественном праве является единственной наукой, необходимой для суверенов и их главных служителей, и что в отношении математических наук (изучение которых им вменяет в обязанность Платон) их обязанности должны идти не дальше того, как хорошими законами поощрять людей к их изучению, когда подумаю, кроме того, о том, что ни Платон, ни какой-либо другой философ не изложил и до сих пор систематически, достаточно полно и достаточно обоснованно все теоремы моральной философии так, чтобы люди могли изучить таким путем, как управлять и как повиноваться, – когда подумаю обо всем этом, я начинаю питать некоторую надежду, что рано или поздно этот мой труд может попасть в руки суверена, который самостоятельно, без помощи заинтересованного и завистливого толкователя, продумает его (ибо он краток и, как я надеюсь, ясен) и, покровительствуя всей силой своей верховной власти широкому изучению этого труда, превратит его спекулятивные истины в полезную практику.
Часть III
О христианском государстве
Глава XXXII
О принципах христианской политики
Я выводил до сих пор права верховной власти и обязанности подданных исключительно из принципов природы, поскольку опыт доказал их истинность или соглашение людей (в отношении употребления слов) сделало их таковыми, то есть я вывел их из природы людей, поскольку мы ее знаем из опыта и из общепринятых определений (таких слов, которые существенны для всех политических рассуждений). Но в отношении того, о чем я буду говорить в ближайших главах, а именно в отношении природы и прав христианского государства, где многое зависит от сверхъестественного откровения воли Божьей, я буду основываться в своем рассуждении не только на естественном слове Божьем, но также и на пророческом.
Тем не менее мы не должны отречься от наших чувств и опыта, а также от нашего естественного разума (который является несомненным словом Божьим). Ибо все эти способности Бог дал нам, с тем чтобы мы пользовались ими до второго пришествия нашего святого Спасителя. И поэтому они не должны быть завернуты в салфетку слепой веры, а должны быть употреблены для приобретения справедливости, мира и истинной религии. Ибо хотя в слове Божьем есть многое сверх разума, то есть то, что не может быть ни доказано, ни опровергнуто естественным разумом, но в нем нет ничего, что противоречило бы разуму. А если имеется видимость такого противоречия, то виною этого является или наше неумение толковать слово Божье, или наше ошибочное рассуждение.
Вот почему, если мы встречаем в Писании что-либо, что не поддается нашему исследованию, то мы обязаны понять это так, как это сказано, а не стараться извлечь из этого путем логических операций философскую истину о каких-то непостижимых и не соответствующих правилам естественного знания таинствах. Ибо с таинствами нашей религии дело обстоит, как с лекарственными пилюлями, которые оказывают свое целебное действие только тогда, когда их проглатывают целиком. Если же мы их разжевываем, то они, не оказав никакого действия, выбрасываются обратно.
Но, говоря о подчинении нашего разума, мы этим не хотим сказать, что мы должны подчинить наши умственные способности мнению другого человека, а лишь то, что мы должны склонить свою волю к повиновению там, где повиновение для нас обязательно. Ибо изменить свое чувство, память, рассудок, разум и наше мнение не в нашей власти, так как они всегда и необходимо детерминированы тем, что мы видим, слышим и о чем мы думаем, и поэтому не они определяются нашей волей, а наша воля определяется ими. Мы тогда подчиняем наш рассудок и разум, когда мы не прекословим, когда мы говорим так, как нам законная власть приказывает, и соответствующим же образом и живем, коротко говоря, когда мы доверяем и верим тому, кто говорит, хотя бы наш разум был неспособен понимать что-либо из сказанных слов.
Если Бог говорит человеку, то это должно быть или непосредственно, или через посредство человека, с которым сам Бог раньше говорил непосредственно. Как Бог может говорить с человеком непосредственно, могут достаточно хорошо понимать те, с которыми Бог так говорил. Но трудно, если не невозможно, понять, как в этом могут удостовериться другие. Ибо если человек говорит мне, что Бог говорил с ним сверхъестественным образом и непосредственно, и я в этом сомневаюсь, то я нелегко себе представляю, какие аргументы он может выдвинуть, чтобы заставить меня верить этому. Правда, если это мой суверен, то он может обязать меня к повиновению в том смысле, чтобы я ни каким-нибудь актом, ни словом не выражал ему, что я ему не верю, но не в том смысле, чтобы я думал иначе, чем мне внушает мой разум. Но если мне говорит подобное человек, не имеющий надо мной такой власти, тогда ничто не может заставить меня ни верить, ни повиноваться.
Ибо если кто-нибудь утверждает, что Бог говорил ему в Священном Писании, то это не значит, что Бог говорил с ним непосредственно, а это значит, что Бог говорил через посредство пророков, апостолов или церкви точно так, как Он говорит всем другим христианам. Если же кто-либо утверждает, что Бог говорил с ним во сне, то это значит лишь, что ему снилось, будто Бог говорил с ним. Такое утверждение не может заставить верить никого, кто знает, что сны имеют большей частью естественные причины и могут возникать из прежних мыслей и что сны, подобные этим, имеют своим источником самомнение, глупое высокомерие и ложное мнение о собственной красоте или других качествах, в силу которых, как человек полагает, он заслужил милость необычайного откровения. Если же человек утверждает, что он видел видение или слышал голос, то это значит, что это ему снилось, когда он находился в состоянии между сном и бдением, ибо в таких случаях люди часто, не заметив своей дремоты, естественно принимают свои сны за видения. А если человек утверждает, что он говорит в силу сверхъестественного вдохновения, то это значит, что он испытывает такое горячее желание говорить или чувствует себя так вознесенным в своем собственном мнении, что он не может указать для этого никакого естественного и достаточного основания. Так что, хотя Бог всемогущий может говорить с человеком посредством снов, видений, голоса и вдохновения, однако он никого не обязывает верить тому, кто утверждает, что Бог с ним таким образом говорил, ибо утверждающий это (будучи человеком) может ошибаться и (что еще хуже) врать.
Как же в таком случае может знать тот, кому Бог никогда не открывал своей воли непосредственно (разве лишь путем естественного разума), как такому человеку знать, когда он должен повиноваться и когда он не должен повиноваться слову Божьему, возвещенному человеком, который называет себя пророком? Из четырехсот пророков, у которых царь израильский просил совета, идти ли ему войной на Рамоф Галаадский или нет, только один Михей оказался истинным. Пророк, который был послан пророчествовать против алтаря, воздвигнутого Иеровоамом, хотя и был истинным пророком и двумя чудесами, сотворенными в присутствии Иеровоама, доказал, что он действительно был послан Богом, был, однако, обманут другим пророком – старцем, который убедил его якобы словом Божьим поесть и попить с ним. Если один пророк обманывает другого, то каким же иным путем, если не путем разума, можно удостовериться в воле Божьей? На что я отвечаю на основании Священного Писания, что имеются два признака, которые в совокупности, но не каждый в отдельности, обнаруживают истинного пророка. Один признак – это творение чудес, другой – не учить другой религии, кроме уже раз установленной. Взятый же в отдельности ни один из них не является достаточным признаком. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, то не слушай слов пророка сего и т. д. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего 1. Эти слова говорят о двух вещах. Во-первых, что Бог не хочет, чтобы мы одни чудеса принимали за доказательство пророческого призвания, ибо они во многих случаях являются лишь испытанием прочности нашей приверженности к Богу (как об этом говорит содержание 3-го стиха). Ибо чудеса, которые творили египетские волхвы, хотя и не были так велики, как чудеса, творимые Моисеем, однако были большими чудесами. Во-вторых, что, как бы ни были велики чудеса, однако если они имеют целью побудить к восстанию против короля или против того, кто управляет его именем, то тот, кто совершает такие чудеса, должен считаться посланным для испытания их верности. Ибо слова эти: отступить от Господа Бога вашего равнозначительны здесь словам: отступить от вашего царя. Ибо они сделали Бога своим царем Заветом, заключенным у подошвы горы Синая. И Бог управлял ими при посредстве одного Моисея, ибо один Моисеи говорил с Богом и время от времени возвещал Его заповеди народу. Точно таким же образом и Христос-Спаситель, заставив своих учеников признать Его за Мессию (то есть за помазанника Божьего, пришествия которого как своего царя еврейский народ ежедневно ждал и, однако, отверг Его, когда Он пришел), не преминул предостеречь их против опасности чудес. Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных 2. Из чего видно, что лжепророки могут быть способны творить чудеса, и мы не должны принять их учение за слово Божье. Апостол Павел, кроме того, говорит в послании к галатам, что если бы он сам или ангел с неба стал благовествовать им не то, что он благовествовал, то да будет ему анафема 3. Благовествование Павла сводилось к тому, что Христос – царь. Следовательно, этими словами апостол Павел объявляет анафему всякой проповеди против власти установленного царя. Ибо в этом послании апостол Павел обращается к тем, которые благодаря его проповеди уже приняли Иисуса как Христа, то есть как царя иудейского. И как творение чудес без проповеди установленного Богом учения, так и проповедь истинного учения без творения чудес является недостаточным доказательством непосредственного откровения. Ибо если человек, учащий не ложному учению, стал бы, не представляя чудес, выдавать себя за пророка, то его не следует принимать за того, за кого он себя выдает, как видно из слов Второзакония4 18, 21, 22. Но можно здесь опять спросить: если пророк предсказал что-нибудь, то, как мы можем знать, сбудется ли оно или нет? Ибо он может предсказать нечто, что должно осуществиться через известный долгий промежуток времени, более долгий, чем продолжительность человеческой жизни, или он может предсказать неопределенно, что это, мол, осуществится рано или поздно; в таковых случаях этот признак пророка оказывается бесполезным: и поэтому чудеса, которые обязывают нас признать в ком-либо истинного пророка, должны быть подтверждены непосредственным событием, а не таким, которое должно произойти долгое время спустя. Таким образом ясно, что проповедь установленной Богом религии и творение очевидных чудес являются единственными признаками, при совокупном наличии которых Писание предписывает нам признать соответствующего человека истинным пророком, то есть человеком, имеющим непосредственное откровение. Ни один из этих признаков, взятый в отдельности, не является достаточным, чтобы обязать кого-либо слушаться того, кто выдает себя за пророка.
1 Второзаконие, 13, 1, 2, 3, 4, 5.
2 Матвей, 24, 25.
3 Послание к галатам, 1, 8.
4 Гоббс приводит эти слова в тексте.
Ввиду того, что чудеса теперь больше не совершаются и, следовательно, мы не имеем никакого признака, на основании которого мы могли бы проверить мнимое откровение или мнимое внушение свыше у частного человека, мы не обязаны прислушиваться к какому-либо учению, выходящему из рамок Священного Писания, которое со времени нашего Спасителя замещает пророчество и является достаточным восполнением отсутствия всяких других пророчеств и из которого при мудром и научном толковании и при внимательном умозаключении могут быть выведены без всякого вдохновения и сверхъестественного внушения все правила и предписания, указывающие нам наши обязанности как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку. И из этого Писания я буду черпать принципы моего учения о правах тех, которые являются верховными правителями христианских государств на земле, и об обязанностях христианских подданных по отношению к своим суверенам. И с этой целью я буду говорить в ближайшей главе о книгах, авторах, цели и авторитете Библии.
Глава XXXIII
О числе, древности, цепи, авторитете и толкователях книг священного писания
Под книгами Священного Писания подразумеваются те книги, которые должны служить каноном, т. е. указывать правила христианского образа жизни. А так как все правила поведения, которые люди обязаны добросовестно соблюдать, являются законами, то вопрос о Писании есть вопрос о том, что является законом как естественным, так и гражданским для всего христианства. Ибо хотя не указано в Писании, какие законы всякий христианский король обязан установить в Своих владениях, однако указано, какие законы он не должен устанавливать. Так как я уже доказал, что суверены являются в Своих владениях единственными законодателями, то каноническими у каждого народа являются лишь те книги, которые устанавливает считать таковыми верховная власть. Верно, конечно, что Бог является сувереном всех суверенов, и поэтому если Бог говорит какому-нибудь подданному, то последний обязан повиноваться ему, как бы повеление Бога ни противоречило постановлению какого-нибудь земного властителя. Но вопрос идет не о повиновении Богу, а о том, когда и что Бог сказал, а это подданные, не имеющие сверхъестественного откровения, могут узнать лишь при помощи того самого естественного разума, который внушил им в целях приобретения мира и правосудия повиноваться власти различных государств, т. е. власти Своих законных суверенов. В соответствии с этим обязательством я могу признать Священным Писанием лишь те книги Ветхого Завета, которые постановила признать таковыми английская церковь. Так как хорошо известно, какие это книги, то незачем приводить здесь их каталог. И это те самые книги, которые признаны св. Иеронимом, считавшим все остальные книги, а именно Книгу Премудрости Соломона, Книгу Экклезиаста, Книгу Иудифи, Книгу Товита, Первую и Вторую Маккавейские Книги (хотя он видел первую Книгу на еврейском языке) и Третью и Четвертую Книги Ездры апокрифами. Канонических книг Иосиф, ученый еврей, писавший в эпоху императора Домициана, насчитывал двадцать две, приводя это число в соответствие с числом букв в еврейской азбуке. Это же число принимает и св. Иероним, хотя в самом подсчете он несколько расходился с Иосифом. Ибо Иосиф считает пять книг Моисея, тринадцать книг пророков, писавших историю своего времени (мы после увидим, как это согласуется с книгами пророков, содержащимися в Библии), и четыре книги гимнов и моральных правил. Св. Иероним же считает пять книг Моисея, восемь книг пророков и девять других священных книг, которые он называет άγιόγραφα. Сентуагинты, т. е. те семьдесят ученых людей из евреев, которые были приглашены египетским царем Птоломеем для перевода еврейского Закона с древнееврейского на греческий язык, оставили нам в качестве Священного Писания на греческом языке именно те книги, которые приняты английской церковью.
Что же касается книг Нового Завета, то они одинаково признаны каноническими всеми христианскими церквами и всеми христианскими сектами, которые вообще допускают канонизирование книг.
Кто были первоначальные авторы разных книг Священного Писания, на этот счет нет достаточных указаний в какой-нибудь другой истории (каковые указания являются единственным доказательством в отношении вопросов факта), а также не может быть установлено при помощи доводов естественного разума, ибо разум служит для выявления истины (не факта) в умозаключениях. В этом вопросе поэтому мы должны руководиться светом, исходящим из самых книг. И хотя этот свет не показывает нам авторов каждой книги, однако он не бесполезен для установления эпохи, в которую книги были написаны.
И прежде всего, что касается Пятикнижия, то тот факт, что оно называется Пятикнижием Моисея, не в большей мере может считаться достаточным доказательством в пользу того, что оно написано Моисеем, чем заглавия: Книга Иисуса, Книга Судей, Книга Руфи и Книга Царей могут служить достаточным доказательством в пользу того, что эти книги написаны Иисусом, Судьями, Руфью и Царями. Ибо в заглавиях книг часто указывается не автор, а то, о чем говорится в книге. История Ливия обозначает автора, но история Скандербега обозначает тему. Мы читаем в последней главе Второзакония, стих 6, относительно гроба Моисея, что никто не знает места погребения Его даже до сего дня, т. е. до того дня, когда эти слова были написаны. Ясно поэтому, что эти слова были написаны после Его погребения. Ибо было бы странно думать, что Моисей, когда он еще был жив, говорит о месте своего собственного погребения (хотя бы пророчески), что оно не было найдено до того дня. Но можно было бы думать, что только последняя глава, но не все Пятикнижие было написано кем-то другим. Рассмотрим поэтому то, что мы находим в Книге Бытия, гл. 12, ст. 6. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до дубравы-море. В этой земле тогда жили хананеи. Ясно, что это слова человека, который писал тогда, когда хананеи не жили в этой земле, и следовательно, что это не мог быть Моисей, который умер до того, как он вошел в нее. Точно так же мы находим в числах гл. 21, ст. 14, что автор цитирует более древнюю книгу, которую он называет Книгой Браней Господних и в которой были описаны деяния Моисея у Чермного моря и у потоков Арнона. Достаточно ясно поэтому, что пять книг Моисея были написаны после Его смерти, хотя неизвестно, как долго спустя после этого.
Однако хотя Моисей не составил этих книг целиком и в той форме, в которой они у нас имеются, он тем не менее написал все то, что Его авторству здесь приписывается, как, например, всю ту Книгу Закона, которая содержится, как кажется, в 11-й и в следующих главах до 27-й Второзакония и которую также заповедано было написать на камнях при вступлении евреев в землю Ханаанскую. И Книгу Закона написал Моисей сам и отдал ее священникам и старейшинам сынов Израилевых, с тем чтобы читать ее каждые семь лет перед всем Израилем, когда он соберется в праздник кущей. И это тот Закон, относительно которого Бог повелел евреям, чтобы их цари (если они установили бы такую форму правления) сняли копию с оригинала, хранящегося у священников и Левитов, и который Моисей велел священникам и Левитам положить одесную Ковчега Завета. И это та книга, которая была потеряна и долгое время спустя была найдена Хелкией и послана царю Иосии, который велел читать ее народу, возобновив этим Завет между Богом и народом. Что Книга Иисуса была также написана долго спустя после смерти Иисуса, можно заключить из многих мест самой книги. Иисус поставил двенадцать камней среди Иордана как памятник перехода народа израильского. И об этих камнях автор говорит: они там и до сего дня. Фраза: до сего дня указывает на то, что само событие произошло в незапамятное прошлое. Подобным же образом после слов Господних, что он снял с народа посрамление египетское, автор говорит: место называется Галгал даже до сего дня, что не могло бы быть сказано во времена Иисуса. Равным образом об имени долины Ахор, присвоенном ей в память беды, наведенной Аханом на лагерь, автор говорит, что оно остается до сего дня, что могло быть сказано лишь много лет спустя после смерти Иисуса. Такого же рода доказательства можно почерпнуть из многих других мест, так, например, Книга Иисуса 8, 29. 13, 13. 14, 14. 15, 63.
Аналогичное же заключение можно сделать и в отношении Книги Судей из гл. 1, 21, 26. 6, 24. 10, 4. 15, 19. 17, 6 и в отношении Книги Руфи, гл. 1, 1, но особенно это очевидно в отношении Книги Судей из гл. 18, ст. 30, где говорится, что Ионафани Его сыновья был и священниками в колене Дановом до дня переселения жителей этой земли.
Книги Самуила были также написаны много лет спустя после Его смерти, как это видно из следующих мест: Первая Книга Самуила 5, 5. 7, 13, 15.27, 6 и 30, 25, где, после того как рассказывается, что Давид решил уделить тем, которые остались в обозе, равную часть добычи с теми, которые сражались, автор говорит: и поставил он это в закон и в правило для Израиля и до сего дня. Опять, когда Давид (опечаленный тем, что Господь убил Озу за то, что он простер руку к Ковчегу, чтобы придержать его) назвал место поражением Озы, автор говорит, что оно называется так доныне. Следовательно, время, когда это писалось, должно было быть значительно позже времени совершения факта, т. е. значительно позже времени Давида.
Что касается двух Книг Царей и двух Книг Паралипоменон, то в них имеется много мест, содержащих упоминание о памятниках, о которых автор говорит, что они сохранились до Его собственных дней, таковы, например, в Первой Книге Царей: 9, 13. 9, 21. 10, 12. 12, 19; во Второй Книге Царей: 2, 22. 8, 22. 10, 27. 14, 7. 16, 6. 17, 23. 17, 34. 17, 41; в Книге Паралипоменон: 4, 41. 5, 26. Кроме того, достаточным доказательством в пользу того, что они были написаны после вавилонского плена, является тот факт, что история царей доведена в них до этого времени. Ибо записанные в них факты относятся всегда к более древней эпохе, чем сама запись, и даже к более древней эпохе, чем те книги, о которых летопись упоминает и которые она цитирует, как они это делают во многих местах, отсылая читателя к летописям царей иудейских, к летописям царей израильских, к Книгам пророка Самуила, пророка Нафана, пророка Ахии, к видениям прозорливца Иоиля, к книгам пророка Самея и пророка Адды.
Книги Ездры и Неемии были определенно написаны после их возвращения из плена, ибо в этих книгах содержится описание их возвращения, восстановления стен и храма Иерусалима, возобновления Завета и установления их государственного управления.
История царицы Эсфири была написана в эпоху плена, а поэтому автор должно быть, жил или в это время, или позже.
В Книге Иова не имеется никакого указания насчет времени ее составления. И хотя представляется достаточно достоверным, что Иов не является вымышленным лицом (как это видно из Книги пророка Иезекииля 14, 14 и из послания апостола Иакова 5, 11), однако сама книга является, по-видимому, не историей, а трактатом по вопросу, который являлся часто предметом дискуссий в древности, а именно по вопросу о том, почему порочные люди часто благоденствуют на этом свете, а праведные люди испытывают бедствия. И это тем более вероятно, что все начало книги до третьего стиха третьей главы, где начинается жалоба Иова, написано в древнееврейской прозе (как засвидетельствовано св. Иеронимом), а отсюда до шестого стиха последней главы – в гекзаметрах, конец же этой главы – опять в прозе. Так что весь диспут изложен в стихах, а проза прибавлена лишь как предисловие в начале и как эпилог в конце. Но стихотворная форма не является обычным стилем таких людей, которые или сами сильно страдают, как Иов, или приходят утешать их, как друзья Иова. В философии же, особенно в моральной философии, этот стиль часто применялся в древности.
Псалмы были написаны в большей Своей части Давидом для хорового исполнения. К ним прибавлены некоторые песни Моисея и других святых людей, а некоторые из них, как, например, 137-й и 126-й псалмы, составлены по возвращении из плена, из чего также видно, что Псалтырь был собран и приобрел ту форму, которую он сейчас имеет, по возвращении евреев из Вавилона.
О притчах, которые представляют собой собрание мудрых и благочестивых изречений частью Соломона, частью Агура, сына Иакеева, а частью матери царя Лемуила, можно с одинаковой вероятностью предположить, что они были собраны Соломоном, как и то, что они были собраны Агуром или матерью Лемуила, а также и то, что хотя авторами этих изречений являются указанные лица, однако они были собраны и объединены в одну книгу каким-нибудь благочестивым человеком, жившим после них всех.
Книги Экклезиаста и Песни песней принадлежат целиком Соломону, за исключением заглавий. Ибо заглавия: Слова Экклезиаста, сын а Давидова, царя в Иерусалиме, и Песни песней Соломона были, по-видимому, сочинены ради различения тогда, когда книги Писания были собраны в один кодекс закона, с тем чтобы люди могли знать не только учение, но и авторов.
Из пророков наиболее древними являются Софоний, Иона, Амос, Осия, Исаия и Михей, жившие в царствование Амасии, Азарии или Осий, царей иудейских. Однако Книга Ионы не является записями Его пророчеств (ибо это пророчество содержится в немногих словах: еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена), а историей или рассказом о Его неповиновении Богу или об Его оспаривании повелений Бога. Таким образом, представляется маловероятным, чтобы он был автором книги, ввиду того что он является ее объектом. Книга же Амоса содержит пророчества последнего.
Иеремия, Авдий, Наум и Аввакум пророчествовали в царствование Иосии. Иезекииль, Даниил, Аггей и Захария жили в эпоху плена. Когда пророчествовали Иоиль и Малахия, нельзя установить из их Книг, но из заглавий этих Книг достаточно очевидно, что весь Ветхий Завет получил ту законченную форму, в которой он имеется у нас, после возвращения евреев из вавилонского плена и до эпохи Птолемея Филадельфия, который предпринял перевод Его на греческий язык через тех семьдесят человек, которые были посланы ему для этой цели из Иудеи. И если книги апокрифа (которые рекомендованы нам Церковью если не как канонические, то все же как поучительные книги) заслуживают в этом отношении доверия, то в ту законченную форму, в которой мы Его имеем, Ветхий Завет был приведен Ездрой, как это также явствует из того, что он сам говорит во Второй Книге, гл. 14, ст. 21, 22 и дальше, где, обращаясь к Богу, он говорит следующее: Закон Твой сожжен, и от того никто не знает, что соделано Тобой или что должно им делать. Но если я приобрел милость у Тебя, ниспошли на меня Духа Святого, чтобы я написал все, что было сделано в мире от начала, что было на писано в Законе Твоем, дабы люди могли найти стезю и дабы те, которые захотят жить в последние времена, могли жить. И стих 45. И когда исполнилось сорок дней, Всевышний сказал: первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать достойные и недостойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа. И этим мы заканчиваем наши соображения насчет времени составления Книг Ветхого Завета.
Авторы Нового Завета жили все меньше чем столетие после вознесения Христа, и все они видели нашего Спасителя или были Его учениками, за исключением апостола Павла и Евангелиста Луки, и, следовательно все, что они писали, так же древне, как эпоха апостолов. Но время, когда Книги Нового Завета были приняты и признаны Церковью как Писания апостолов, не такое уже отдаленное. Ибо, подобно тому как Книги Ветхого Завета перешли к нам из не более отдаленной эпохи, чем время Ездры, который под руководством Духа Божьего восстановил их, когда они были потеряны, точно так же и книги Нового Завета, которые имелись в немногих списках, не могли быть все в руках одного частного человека, могли перейти к нам с не более отдаленного времени, чем то, когда правители Церкви собрали, одобрили и рекомендовали их нам в качестве творения тех апостолов и учеников, под именем которых они обращаются. Первое перечисление всех книг как Ветхого, так и Нового Завета имеется в канонах апостолов, которые, как предполагается, были собраны первым (после апостола Петра) римским епископом, Клементием I. Но так как это лишь предполагается и многими поставлено под знак вопроса, то достоверно известно, что впервые рекомендовал Библию всем тогдашним христианским церквам в качестве творений пророков и апостолов Лаодикейский собор и что этот собор заседал в 364 г., после вознесения Христа. И хотя в это время честолюбие так обуяло великих учителей Церкви, что они императоров, хотя бы и христианских, не считали уже пастырями своего народа, а овцами, императоров же не -христиан объявили волками; свои же учения старались провести не как совет и информацию, исходящие от проповедников, а как законы, исходящие от абсолютных правителей; и хотя они зашли так далеко, что считали всякий обман благочестивым делом, если только этот обман имел Своей целью сделать народ более послушным христианскому учению, тем не менее я убежден, что они не фальсифицировали Писания, хотя копии книг Нового Завета были в руках исключительно церковников. Ибо, если бы они имели намерение это сделать, они наверное сделали бы эти книги более благоприятными, чем они суть, для Своей власти над христианскими монархами и над гражданской верховной властью. Я поэтому не вижу никакого основания сомневаться в том, что как Ветхий, так и Новый Завет в той редакции, в которой мы их имеем, являются верными записями того, что было сделано и сказано пророками и апостолами. И таковыми, может быть, являются некоторые из тех книг, которые называются апокрифическими, если они выпущены из канона не в силу несоответствия их учения остальным книгам Священного Писания, а лишь потому, что они не были найдены на древнееврейском языке.
Ибо после завоевания Азии Александром Великим было очень мало образованных евреев, которые не владели бы в совершенстве греческим языком. Семьдесят толковников, которые перевели Библию на греческий язык, были все евреи, и мы имеем труды двух евреев, Филона и Иосифа, написанные на прекрасном греческом языке. Однако канонической делает книгу не автор, а авторитет церкви. И хотя книги Библии были написаны разными людьми, однако все авторы очевидно были проникнуты одним и тем же Духом и содействовали одной и той же цели, именно возвеличению власти Царства Божьего, Отца, Сына и Святого Духа.
Ибо Книга Бытия содержит генеалогию избранного Богом народа от сотворения мира до переселения в Египет. Остальные четыре Книги Моисея содержат историю избрания этим народом Бога Своим царем и законы, предписанные Богом для управления им. Книги Иисуса, Судей, Руфи и Самуила до воцарения Саула описывают деяния избранного народа до того момента, когда он сбросил ярмо Бога и потребовал себе царя по образцу соседних ему народов. Остальная часть истории Ветхого Завета описывает последовательную смену поколений в линии Давида до эпохи плена, из каковой линии должен был произойти восстановитель Царства Божия, именно наш святой Спаситель, Бог-Сын, чье пришествие было предсказано в книгах пророков; затем Евангелисты описали Его жизнь и Его деяния и Его притязание на царство, пока он жил на земле. И, наконец, Деяния и Послания апостолов объявляют о пришествии Бога, Святого Духа и о миссии, возложенной на них и на их преемников, наставлять евреев и призывать язычников к исповеданию веры Христа. Коротко говоря, истории и пророчества Ветхого Завета и Евангелия и Послания Нового Завета имеют одну и ту же цель, а именно побудить людей к повиновению Богу: 1) в лице Моисея и священников; 2) в лице Христа-человека; 3) в лице апостолов и их преемников в апостольской власти. Ибо эти три категории людей в разные времена представляли лицо Бога: Моисей и Его преемники, первосвященники и цари иудейские – в эпоху Ветхого Завета; сам Христос – во время Его земной жизни и апостолы и их преемники – с Троицына дня (когда на них снизошел Святой Дух) до наших дней.
Много споров возбуждал среди различных сект христианской религии вопрос о том, на чем основан авторитет Писания? Этот вопрос иногда формулировался также следующим образом: откуда мы знаем, что Писание является Словом Божьим? Или почему мы верим, что оно является таковым? Трудность решения этого вопроса проистекает главным образом из неточности формулировки самого вопроса. Ибо все веруют, что первым и первоначальным вдохновителем Книг Писания является Бог, и, следовательно, спорность вопроса не в этом. Очевидно, кроме того, что знать о том, что они являются Словом Божьим, никто не может (хотя все истинные христиане верят этому), за исключением тех, которым Бог открыл это сверхъестественным путем, и поэтому неправильно ставить вопрос о нашем знании этого. И наконец, если вопрос ставится о нашей вере, то так как одних побуждают верить одни основания, других – другие, то общего ответа на этот вопрос вообще не может быть. Правильно формулированный вопрос должен гласить так: чьей властью Писание сделано было законом?
Поскольку Писание не отличается от естественных законов, то не приходится сомневаться в том, что оно является Законом Бога и в себе самом носит печать своего авторитета, ясного для всякого, кто обладает естественным разумом, но такой авторитет имеют и все другие моральные учения, согласные с разумом, предписания которого являются законами, не установленными, a вечными.
Если Заповеди Библии сделаны законами самим Богом, то они имеют характер писаных законов, которые являются законами лишь для тех, кому Бог их настолько ясно возвестил, что никто из них не может оправдываться, говоря, что он не знал, что они исходят от Бога.
Поэтому того, кому Бог не объявил путем сверхъестественного откровения, что это Его законы или что тот, кто их возвещает, послан им, не может обязать к повиновению им никакой иной авторитет кроме авторитета того, чьи постановления уже имеют силу закона, т. е. никакой иной авторитет кроме авторитета государства, воплощенного в суверене, который один обладает законодательной властью. Опять-таки если Книгам Священного Писания придает силу закона не законодательная власть государства, то это делает авторитет кого-то другого, частного человека или публично-правового института. Если это авторитет частного человека, то он может обязать лишь того, кому Богу угодно было дать частное откровение. Ибо если всякий человек был бы обязан принимать за закон Бога то, что частные люди, претендующие на частное вдохновение или откровение, стали бы ему навязывать (при наличии такой массы людей, которые вследствие гордости или невежества принимают за свидетельства божественного духа свои собственные сны, экстравагантные фантазии и сумасшествия или из честолюбия лживо и против Своей собственной совести утверждают, что имели знамение от Бога), то исключалась бы возможность признания хотя бы одного Божественного Закона. Если же это авторитет какого-нибудь публично-правового института, то это может быть авторитет или государства, или Церкви. Но если Церковь есть единая личность, то она совпадает с государством христиан, которое называется государством, потому что оно состоит из людей, объединенных в одном лице, в лице своего суверена, и называется Церковью, потому что оно состоит из людей-христиан, объединенных в лице суверена-христианина. Если же Церковь не является единым лицом, то она не имеет никакого авторитета: она не может ни приказывать, ни совершать какого-либо деяния и не способна иметь какую-нибудь власть или какое-нибудь право на что-нибудь, а также не имеет она ни воли, ни разума, ни голоса, ибо все эти качества суть качества лица. А посему, если вся совокупность христиан не содержится в одном государстве, то Церковь не является единым лицом и нет в наличности универсальной Церкви, которая имела бы власть над всеми христианами, и следовательно, Писание не могло быть сделано законом универсальной Церковью. Если же имеется такое единое государство, тогда все христианские монархи и государства являются частными лицами и могут быть судимы, низложены и наказываемы универсальным сувереном всего христианства. Таким образом, вопрос об авторитете Писания сводится к следующему, а именно: являются ли христианские короли и верховные собрания христианских государств абсолютными суверенами в Своих собственных территориях, непосредственно ответственными перед Богом, или же они подвластны какому то наместнику Христа, поставленному над универсальной Церковью, так что они могут быть судимы, осуждены, низложены и подвергнуты смертной казни, поскольку этот наместник Христа сочтет это целесообразным или необходимым в видах общего блага.
Этот вопрос не может быть разрешен без более детального рассмотрения вопроса о Царстве Божьем, после чего мы сможем судить и о том, кто компетентен интерпретировать Писание. Ибо тот, кто имеет законную власть сделать какое-нибудь сочинение законом, имеет также власть санкционировать или запрещать Его толкование.
Глава XXXIV
О значении слов: «Дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах Священного Писания
Ввиду того, что основой всякого правильного рассуждения является устойчивое значение слов, которое в нижеизложенном нашем учении зависит не от желания автора (как в естественных науках) и не от общераспространенного словоупотребления (как в простом разговоре), а от того смысла, который слова имеют в Писании, то, прежде чем идти дальше, мне необходимо определить на основании Библии значение таких слов, которые Своей двусмысленностью могли бы сделать мои выводы нелепыми и спорными. Я начну со слов: тело и Дух, которые на языке схоластов называются субстанциями, телесной и бестелесной.
Слово тело в наиболее общем словоупотреблении обозначает то, что заполняет и занимает определенное пространство или воображаемое место и не зависит от воображения, а является реальной частью того, что мы называем вселенной. Ибо так как вселенная есть агрегат всех тел, то нет такой реальной части ее, которая не была бы также телом. Точно так же ничто не может быть телом в собственном смысле этого слова, не будучи одновременно частью (этого агрегата всех тел ) вселенной. Так как далее тела подвержены изменению, т. е. могут в разнообразных видах представиться чувствам живых существ, то они называются субстанциями, т. е. подтвержденными разнообразным акциденциям, как, например, иногда быть в состоянии движения и иногда в состоянии покоя и казаться нашим ощущениям то горячими, то холодными, то имеющими один цвет, запах, вкус, то другими. И это разнообразие кажимости (произведенное разнообразными действиями тел на наши органы чувств) мы принимаем за изменения действующих на нас тел и называем их акциденциями тех тел. И в соответствии с этим значением слова субстанция и тело означают одно и то же, и поэтому бестелесная субстанция суть слова, которые при соединении взаимно уничтожают одно другое, как если бы человек сказал: бестелесное тело.
Однако в понимании простых людей не вся вселенная называется телом, а лишь те ее части, которые они различают осязанием, когда эти части противостоят их силе, или глазами, когда эти части заслоняют им дальнейшую перспективу. Поэтому на языке простых людей воздух и воздушные субстанции не называются обыкновенно телами, а (каждый раз, когда люди чувствуют их действие) ветром или дыханием, или (так как это последнее называется по-латыни spiritus) духами. Например, ту воздушную субстанцию, которая дает телу всякого живого существа жизнь и движение, они называют жизненными, или животными духа ми. Что же касается тех фантастических призраков (idola), которые представляют нам тела там, где их нет, как в зеркале, во сне или как это представляется больному мозгу в бодрствующем состоянии, то (как апостол говорит о всех идолах вообще) они ничто; абсолютное ничто, говорю я, там, где они нам представляются имеющими бытие; и в самом мозге они существуют лишь в виде волнения, происходящего или от действия объектов, или от беспорядочного раздражения наших органов чувств. И вот люди, слишком занятые всякими другими делами, чтобы иметь время исследовать их причины, не знают сами, как называть их, и по внушению тех, знания которых они высоко ценят, одни называют их телами и считают их сделанными из воздуха, уплотненного сверхъестественной силой, ибо зрению они представляются телесными; другие же называют их духами, ибо осязание не ощущает в том месте, где они представляются, никакого сопротивления пальцам. Так что точное значение слова «дух» в обиходной речи есть или утонченное, текучее и невидимое тело, или привидение, или другой идол, или призрак воображения. В метафорическом же смысле слово «дух» имеет много значений. Ибо иногда это слово употребляется в смысле расположения или склонности ума, так, например, когда мы наклонность критиковать высказывания других людей называем Духом противоречия, наклонность к нравственной нечистоплотности называем нечистым духом, наклонность к злобе – злым духом, наклонность к угрюмости – мрачным духом, а расположение к благочестию и к служению Богу мы называем Божьим Духом. Иногда же мы этим словом обозначаем какую-нибудь выдающуюся способность, или необычайную страсть, или душевную болезнь, например, когда мы великую мудрость называем Духом мудрости, а о сумасшедших людях мы говорим, что они одержимы духом.
Иного значения слова Дух я нигде не нахожу, и там, где ни одно из этих значений не подходит под смысл этого слова в Писании, соответствующее место является недоступным человеческому пониманию, и наша вера в этом случае состоит не в нашем мнении, а в нашей покорности. Таковы, например, все те места, где говорится, что Бог есть Дух, или где под «Духом Божьим» подразумевается сам Бог. Ибо природа Бога непостижима, т. е. мы абсолютно не понимаем, каков Он есть, а лишь то, что О несть. И поэтому значение атрибутов, которые мы ему приписываем, состоит не в том, что мы при их помощи сообщаем друг другу, каков Он есть, или обозначаем наше мнение о Его природе, а лишь в том, что мы ими выражаем наше желание славить Его такими именами, которые мы считаем наиболее почетными среди нас самих.
Книга Бытия 1, 2. Дух Божий носился над водой. Если здесь под Духом Божьим подразумевается сам Бог, тогда Богу приписывается движение и, следовательно, место, что имеет смысл лишь в отношении тел, но не в отношении бестелесных субстанций, и таким образом это место Писания превышает силы нашего разума, который не может представить себе, чтобы что-либо двигалось, не меняя места и не имея измерения, а все, что имеет измерение, есть тело. Однако смысл этих слов лучше всего раскрывает нам аналогичное место Книги Бытия, гл. 6, I, где говорится, что, когда земля была покрыта водой, как вначале, Бог, намереваясь спустить воду и дать снова выступить сухой земле, употребляет аналогичные слова: я наведу Дух мой на землю, и вода убавится. В данном месте под Духом подразумевается ветер (т. е. движущийся воздух или дух), который может быть назван «Духом Божьим», так как он дело рук Бога.
В Книге Бытия 41, 38 фараон называет мудрость Иосифа Духом Божьим. Ибо, после того как Иосиф посоветовал ему «усмотреть мужа разумного и мудрого и поставить Его над землей египетской», фараон говорит так: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И в Книге Исхода 28, 3: скажи всем мудрым сердцем (говорит Бог), которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, где необычайное понимание, хотя бы лишь в изготовлении одежды, как дар Бога, называется Духом Божьим. В этом же смысле мы находим снова это слово в Книге Исхода 31, 3, 4, 5, 6 и 35, 31, а также в Книге Исаии 11, 2, 3, где пророк говорит о будущем Мессии: и почтет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости и Дух страха Господнего, где явно подразумеваются не разные духи, а разные необычайные дары, которыми Бог наделит его.
В Книге Судей называются Духом Божьим необычайная ревность и храбрость, проявленные в защите народа Божия. Так, например, когда говорится, что этот Дух побудил Гофаниила, Гедеона, Иеффая и Самсона освободить евреев от рабства, Книга Судей 3, 10. 6, 34. 11, 29. 13, 25. 14, 6, 19. И о Сауле, когда до него дошла весть о наглости аммонитян против жителей Иависа Галаадского, сказано: и сошел Дух Божий на Саула и сильно воспламенился гнев Его (или, как сказано по-латыни, Его ярость). Здесь явно подразумевается не Дух, а необычайное рвение наказать жестокость аммонитян. Точно так же под Духом Божьим, сошедшим на Саула, когда он находился среди пророков, славивших Господа пением и музыкой (1-я Книга Царств 19, 20), следует понимать не Дух, а неожиданный и внезапный порыв присоединиться к ним в совершении дел благочестия.
Лжепророк Седекия говорит Михею (1-я Книга Царств 22, 24): неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе? Здесь не может подразумеваться Дух, ибо Михей предсказывал царям израильскому и иудейскому Исход сражения на основании видения, а не со слов говорящего в нем духа. И в отношении книг пророков нам также кажется, что хотя пророки говорили в силу Духа Божия, т. е. в силу особой благодати пророчества, однако их знание будущего было обусловлено не наличием какого-то духа внутри них, а каким-нибудь сверхъестественным сном или видением.
В Книге Бытия 2, 7 сказано: и создал Господь-бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его дыхание жизни, и стал человек душой живой. Здесь дыхание жизни, вдунутое Богом, означает лишь, что Бог дал человеку жизнь. И (в Книге Иова 27, 3): доколе Дух Божий в ноздрях моих означает лишь доколе я жив. Так, в Книге пророка Иезекииля: Дух жизни был в колесах равнозначительно: колеса были живы. И (Книга Иезекииля 2, 2) вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои означает – мои жизненные силы был и снова восстановлены, а не то, что в него вошел и овладел Его телом какой-то Дух или бестелесная субстанция.
В одиннадцатой главе Книги Чисел, ст. 17, говорится: и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, т. е. на семьдесят старейшин. После этого рассказывается, что двое из этих семидесяти стали пророчествовать в стане; некоторые на них жаловались, и Иисус просил Моисея запретить указанным старейшинам пророчествование, на что Моисей не согласился. Из этого видно, что Иисус не знал, что они были уполномочены на то и пророчествовали в духе Моисея, т. е. в силу духа или авторитета, подчиненного Его собственному.
В том же смысле мы читаем (Второзаконие 34, 9): Иисус исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои; т. е. потому что он был предназначен Моисеем продолжать то дело, которое он сам начал (именно введение избранного народа в обетованную землю), но, постигнутый смертью, не мог кончить.
В подобном же смысле говорится (Послание к римлянам 8, 9): Кто Духа Христова не имеет, тот и не его, где подразумевается не Дух Христа, а подчинение Его учению. Точно так же (Послание Иоанна 4, 2): Духа Божия узнавайте так: всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, где подразумевается Дух непритворного христианства, или признание основного догмата христианской веры, а именно, что Иисус есть Христос, что не может быть истолковано как дух.
Точно так же слова (Евангелие от Луки 4, 1): Иисус, исполненный Духа Святого, могут быть поняты в смысле рвения исполнить то дело, для которого Он был послан Богом Отцом. Если же мы понимали бы эти слова буквально, то это значило бы, что сам Бог (ибо таковым был наш Спаситель) был исполнен Бога, что было бы нелепо и бессмысленно. Я не вхожу здесь в рассмотрение того, почему мы стали переводить слово spiritus словом Дух, означающим нечто, не существующее ни на небе, ни на земле, а являющееся лишь плодом человеческого воображения, но я утверждаю, что слово spiritus в тексте Писания означает не это, а или в собственном смысле реальную субстанцию, или в метафорическом смысле какую-либо выдающуюся способность, или свойство души или тела.
Ученики Иисуса, увидев Его идущего по морю (Евангелие от Матвея 14, 26 и Евангелие от Марка 6, 49), подумали, что это призрак. Под последним здесь подразумевается воздушное тело, а не фантом, ибо сказано, что все Его видели, а это не могло бы иметь места, если бы речь шла не о теле, а об обмане чувств (ибо такие обманы чувств не могут быть у многих людей сразу, как это бывает с созерцанием видимых тел, а лишь у отдельных людей, так как эти обманы зависят от особенностей фантазии). Точно так же следует понимать то место, где говорится (Евангелие от Луки 24, 37), что те же апостолы, увидев Христа, подумали, что видят духа. Подобным же образом там, где рассказывается, что (Деяния апостолов 12, 15), когда апостол был освобожден из темницы, этому не поверили, но когда служанка объявила, что Петр стоит у ворот, то бывшие в доме сказали, что это Его ангел, – под последним следует разуметь телесную субстанцию, или же мы должны сказать, что сами ученики разделяли общее мнение как евреев, так и язычников о том, что некоторые такие видения являются не воображаемыми, а реальными и такими, которые имеют бытие независимо от представления людей. Такие видения евреи называют духами или ангелами, добрыми или злыми, как греки называли их демонами. И некоторые такие видения могут быть реальными и субстанциальными, т. е. утонченными телами, которых Бог может сотворить по своему усмотрению необычайным и сверхъестественным образом и пользоваться ими как служителями или вестниками (т. е. ангелами), чтобы возвестить Его волю и приводить ее в исполнение, точно так же как он сотворил все виды. Но если Бог образовал их таким образом, то они являются субстанциями, имеющими измерение и занимающими пространство, и могут двигаться с места на место, что специфически свойственно телам. И поэтому они не являются бестелесными духами, т. е. духами, которые не находятся ни в каком месте, т. е. нигде, т. е. такими, которые кажутся чем-то, а на самом деле суть ничто. Но если под телесными, согласно общепринятому смыслу этого слова, понимать субстанции, которые могут быть восприняты нашими внешними чувствами, тогда бестелесная субстанция есть вещь, не воображаемая, а реальная, именно тонкая, невидимая субстанция, имеющая, однако, те же измерения, что и более грубые тела.
Слово «ангел» обозначает вообще вестника, и наиболее часто вестника Бога, а под вестником Бога обозначается всякая вещь, возвещающая Его необычное присутствие, т. е. необычное проявление Его власти, что бывает чаще всего путем снов или видений.
В отношении сотворения ангелов в Писании ничего не сообщается. Часто говорится, что они духи, но словом «дух» обозначаются как в Писании, так и в обиходной речи, как у евреев, так и у язычников, иногда тонкие тела, как воздух, ветер, жизненные и животные духи живых существ, а иногда образы воображения, как образы снов и видений, которые не являются реальными субстанциями и прекращаются одновременно с тем сном или видением, в котором они являются. Но хотя эти образы не являются реальными субстанциями, а лишь акциденциями мозга, однако, если Бог их вызывает сверхъестественным путем для возвещения Своей воли, тогда они правильно называются Божьими вестниками, т. е. Его ангелами.
И так же как язычники обыкновенно принимали образы их воображения за предметы, имеющие реальное бытие вне их, а не за нечто, зависящее от их представления, и отсюда образовали свое мнение о демонах, добрых и злых, и называли их субстанциями, представляя их себе реально существующими и бестелесными, так как они не могли осязать их руками, точно так же и евреи на том же основании (и так как в Ветхом Завете нет ничего, что этому противоречило бы) держались в массе Своей (за исключением секты саддукеев) того взгляда, что эти образы (которые Богу угодно было иногда произвести в воображении людей для Своих собственных целей, а поэтому он назвал их Своими ангелами) являются субстанциями, не зависящими от воображения, и перманентными творениями Бога, причем тех, которых они считали благосклонными к себе, они называли ангелами Бога, а тех, которые, по их мнению, стремились вредить им, они называли злыми ангелами, или злыми духа ми. К последним относились ими Дух колдуна и духи сумасшедших, лунатиков и эпилептиков. Ибо они считали всех страдавших такими болезнями одержимыми бесами.
Однако если мы рассмотрим те места Ветхого Завета, в которых упоминается об ангелах, то мы найдем, что в большинстве из них ничего иного нельзя подразумевать под словом ангел, как лишь образ, возникший (сверхъестественно) в воображении, чтобы возвестить присутствие Бога при совершении какого-нибудь сверхъестественного дела. Поэтому мы можем точно таким же образом понять это и там, где природа ангелов не так ясно выражена.
В самом деле, мы встречаем в Книге Бытия, гл. 16, что это же самое явление называется не только ангелом, но и Богом, а именно там, где то, что называется ангелом Господним (в ст. 7), в десятом стихе говорит Агари: умножая, умножу потомство твое, т. е. говорит в лице Бога. Да и явление это предстало перед Агарью не в зрительном образе, а в виде голоса, из чего ясно, что слово ангел означает здесь не что иное, как самого Бога, который сверхъестественным путем дал возможность Агари услышать голос с неба, или, вернее, не что иное, как сверхъестественный голос, свидетельствующий о специальном присутствии там Бога. Почему же поэтому нельзя думать, что те ангелы, которые явились Лоту и которые названы (Книга Бытия 19, 13) людьми и к которым, хотя их было два, Лот обращается (ст. 18) как к одному, причем как к одному, который есть Бог (ибо там сказано: Лот сказал им: нет, владыка), почему нельзя думать, что эти ангелы были образами людей, сверхъестественно возникшими в представлении, подобно тому как в предыдущем примере под ангелом подразумевался воображаемый голос? Когда ангел воззвал с неба к Аврааму, требуя, чтобы он не поднимал руки на своего сына Исаака, то перед Авраамом не было зрительного образа, а лишь голос, и тем не менее он совершенно правильно назван был вестником, или ангелом, Господним, ибо он сверхъестественным образом возвестил волю Божью; и это избавляет нас от необходимости предположить перманентных духов. Те ангелы, которых Иаков видел на лестнице, достигающей неба (Книга Бытия 28, 12), были видением во сне и поэтому лишь представлением и сном. Но так как это были сверхъестественные видения и знамения специального присутствия Бога, то они правильно названы были ангелами. И так это следует понимать там, где Иаков говорит: ангел Божий явился ко мне во сне. Ибо явление, представляющееся человеку во сне, есть то, что все люди называют сном независимо от того, является ли такой сон естественным или сверхъестественным. И то, что Иаков здесь называет ангелом, был сам Бог, ибо этот же самый ангел говорит (ст. 13): я Бога в Вефиле.
Точно так же и тот ангел (Исход 14, 9), который шел перед станом сынов Израилевых к Чермному морю, а затем пошел позади их, был сам Бог. И он появился не в форме красивого человека, а (днем) в форме столпа облачного и (ночью) в форме столпа огненного. И однако этот столп представлял собой все видение и ангела, который был обещан Моисею для указания дороги стану. Ибо рассказывается, что этот столп облачный снизился и стал у дверей скинии и говорил с Моисеем.
Таким образом вы видите, что движение и речь, которые обыкновенно приписываются ангелам, приписываются здесь облаку, потому что это облако служило здесь знамением присутствия Бога и было не в меньшей степени ангелом, чем если бы оно имело форму человека или ребенка невиданной красоты, или крылья, с которыми обыкновенно изображают ангелов для ложного наставления простого народа. Ибо ангелов делает ангелами не их форма, а их миссия. А их миссия заключается в том, чтобы служить показателями присутствия Бога в сверхъестественных актах. Так, когда Моисей (Исход 33, 14) просил Бога идти вместе со станом (как он это делал всегда до сотворения золотого тельца), Бог не ответил: Я пойду или Я пошлю ангела вместо меня, а: Мое присутствие будет с вами.
Нас завело бы слишком далеко, если бы мы стали приводить все те места Ветхого Завета, в которых встречается слово «ангел». Я поэтому выставляю здесь положение, относящееся ко всем этим местам, взятым за одно, а именно я утверждаю, что в той части Ветхого Завета, которую английская церковь считает канонической, нет ни одного текста, из которого мы могли бы заключить, что существует или что был создан какой-либо перманентный предмет (подразумеваемый под именем ангела или духа), который не имел бы количества и не мог бы быть мысленно делим, т. е. рассматриваем как состоящий из частей, из которых одна часть может быть в одном месте, а ближайшая часть в ближайшем к первому месте, словом, предмет, который не был бы телесным (считая телом то, что есть нечто или где-то), но во всех тех местах, где встречается слово «ангел», это слово может быть истолковано как вестник. В этом смысле назван ангелом Иоанн Креститель и ангелом Завета Христос и (по той же аналогии) могли бы быть названы ангелами голубь и огненные языки, поскольку они были показателями специального присутствия Бога. И хотя мы находим в Книге Даниила два имени ангелов: Гавриил и Михаил, однако ясно из самого текста (Книги Даниила 12, 1), что под Михаилом подразумевается Христос, не как ангел, а как царь, и что Гавриил (как аналогичные явления, которые имели во сне другие святые люди) не более как сверхъестественное видение, при котором Даниилу представились во сне два святых, которые вели между собой разговор и из которых один сказал другому: Гавриил, объясним ему это видение. Ибо Господь не нуждается для различения Своих небесных служителей в именах, которые полезны лишь для смертных ввиду их короткой памяти. Точно так же нельзя найти и в Новом Завете места, из которого видно было бы, что ангелы (за исключением тех случаев, когда эти имена даются таким людям, которых Бог сделал Своими вестниками и проводниками Своих слов и дел) являются перманентными существами и одновременно бестелесными. Что они являются перманентными существами, может быть выведено из слов нашего Спасителя, где он говорит (Евангелие от Матвея 25, 41), что в день Страшного суда будет сказано порочным людям: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Это место явно говорит о дурных ангелах как о перманентных существах (разве лишь предположить, что под именем дьявола и Его ангелов могут подразумеваться враждебные церкви и их служители), но тогда это место говорит против имматериальности этих существ, так как вечный огонь не является наказанием для нечувствительных субстанций, какими являются все бестелесные существа. Из этого места, следовательно, нельзя сделать заключения о бестелесности ангелов. Точно так же там, где апостол Павел говорит (Первое Послание к Коринфянам 6, 3): разве не знаете, что будем судить ангелов? и (Второе послание Петра 2, 4): ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, а бросил их в ад и... (послание Иуды 1, 6) ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня, – то хотя эти тексты доказывают перманентность ангельской природы, но они же подтверждают также их материальность. И (Евангелие от Матвея 22): в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. Однако в воскресении люди будут вечны, но не бестелесны, следовательно таковы и ангелы.
Имеется еще много других мест, из которых можно вывести подобные заключения. Для людей, которые понимают значение слов субстанция и бестелесная, если под бестелесной понимать не утонченное тело, а не тело, указанные слова взаимно исключают одно другое в такой степени, что сказать: ангел и Дух есть (в последнем смысле) бестелесная субстанция, значит в действительности сказать, что не существует ни ангелов, ни духов. Поэтому, принимая во внимание значение слова ангел в Ветхом Завете и природу снов и видений, которые бывают у людей естественным образом, я был склонен думать, что ангелы суть лишь сверхъестественные образы представления, вызванные специальным и необычайным актом Бога, с тем чтобы возвестить свое присутствие и свои Заповеди человеческому роду и в особенности своему избранному народу. Однако многие места Нового Завета и собственные слова нашего Спасителя в таких текстах, где нет никакого подозрения в искажении Писания, заставили мой слабый разум признать и поверить, что имеются также субстанциальные и перманентные ангелы. Но тот взгляд, что эти ангелы не занимают никакого места, т. е. что они нигде, т. е. что они ничто, как это утверждают (хотя и косвенно) те, которые считают их бестелесными, такой взгляд не может быть доказан на основании Писания.
От значения слова Дух зависит также значение слова вдохновение. Это слово мы должны понимать или буквально, и тогда это означает вдувание в человека тонкого воздуха, или ветра, подобно тому как человек наполняет Своим дыханием пузырь, или, если духи суть нечто бестелесное и существуют лишь в представлении, то вдохновить означает лишь вдунуть какую-нибудь фантазию, что является несоответственным выражением, да и невозможно, ибо фантазия не есть нечто в действительности, а лишь нечто кажущееся. Это слово употребляется поэтому в Писании лишь в метафорическом смысле. Так, например, когда, говорится (Книга Бытия 2, 7), что Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, то под этим подразумевается лишь, что Бог дал ему жизненное движение. Ибо мы не должны себе представить дело так, будто Бог сначала сотворил живое дыхание, а затем вдунул Его в Адама после Его сотворения, мы не должны себе представить дело так независимо от того, идет ли речь о реальном или кажущемся дыхании. Смысл приведенной фразы лишь тот, что Он дал жизнь и дыхание, т. е. сделал человека живым существом. А там, где сказано (Второе Послание к Тимофею 3, 16): все Писание боговдохновенно, что относится к Писанию Ветхого Завета, то это является легкой метафорой, долженствующей обозначить, что Бог склонил Дух или ум тех авторов писать то, что должно быть полезно для поучения, для обличения, для поправления людей и для наставления их в правде. А там, где апостол Петр говорит (Второе послание апостола Петра 1, 21), что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые божии человеки, будучи движимы Духом Святым, то под Святым Духом подразумевается голос Божий во сне или в сверхъестественном видении, что не есть вдохновение. Точно так же, когда наш Спаситель, дохнув на Своих учеников, сказал: примите Святой Дух, то это дыхание не было духом, а лишь знаком тех духовных даров, которыми он наделил их. И хотя о многих и в том числе о самом нашем Спасителе сказано, что они были исполнены Святого Духа, однако эту исполненность не следует понимать в смысле вливания Божественной субстанции, а в смысле умножения Его даров, каковыми дарами являются святость жизни, святость языка и т. п. независимо от того, приобретены ли они сверхъестественным путем или прилежанием и усердием. Ибо во всех этих случаях они являются дарами Бога. В соответствии с этим там, где Бог говорит (Книга пророка Иоиля 2, 28): излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, а юноши ваши будут видеть видения, то мы не должны понимать это буквально, будто Дух Божий подобно воде может изливаться и вливаться, а лишь так, что Бог обещал ниспослать на них пророческие сны и видения. Ибо буквальное применение слова «влить» по отношению к милостям Божиим было бы злоупотреблением, так как эти милости представляют собой определенные душевные качества, а не тела, которые можно переносить туда и сюда и которые можно вливать в людей, как в бочки.
Точно так же не соответствовало бы смыслу Библии, если бы мы понимали слово «вдохновение» буквально или сказали бы, что Духи Божии входят в людей, чтобы сделать их способными пророчествовать, или что злые духи входят в тех, которые становятся бешеными, лунатиками или эпилептиками, ибо в Библии это слово понимается в смысле божественного могущества, действующего неисповедимыми для нас путями. Соответственным же образом не следует понимать как святой Дух и тот ветер, о котором говорится (Деяния апостолов 2, 2), что он наполнил дом, в котором собрались апостолы в день Пятидесятницы, ибо Дух Божий – это сам Бог. Поэтому этот ветер следует понимать как внешнее проявление особенного воздействия Бога на их сердца, с тем чтобы произвести в них ту внутреннюю благодать и те святые качества, которые он считал необходимыми в целях выполнения ими их апостольской миссии.
Глава XXXV
О том, что означают в Писании слова: «Царство Божье», «святой» и «сакраменто»
В сочинениях теологов, и особенно в проповедях и религиозных трактатах, слово Царство Божье обыкновенно толкуется в смысле вечного блаженства на небесах после земной жизни, которое они называют также царством славы, а иногда (как высшее блаженство) святостью, определяемой ими как царство благодати, но никогда они не толкуют этого слова в его собственном смысле, в смысле монархии, то есть в смысле верховной власти Бога над подданными, приобретенной с собственного согласия последних.
В противоположность этому я нахожу, что в большинстве мест Писания слово Царство Божие означает царство в особенном смысле этого слова, установленное голосованием народа израильского в особой форме, при которой он, получив от Бога обетование отдать ему во владение землю Ханаанскую, избрал Бога своим царем, заключив с Ним Завет; и лишь очень редко слово Царство Божье употребляется в метафорическом смысле (и то лишь в Новом Завете), и тогда это означает власть над грехом, ибо такую власть всякий подданный должен иметь в Царстве Божьем и без всякого ущерба для суверена.
С самого момента творения Бог не только через природу благодаря своему могуществу царствовал над всеми людьми, но имел также особенных подданных, которым Он возвещал свои заповеди голосом, как человек говорит с человеком. В этой последней форме Он царствовал над Адамом, запретив ему есть от древа познания добра и зла. А когда Адам ослушался Бога и, вкусив от запретного Дерева, захотел стать, как Бог, и судить о добре и зле не по указаниям Бога, а соответственно своему собственному разумению, он был наказан лишением вечной жизни, для которой Бог его вначале сотворил. А потом Бог наказал за грехи все потомство Адама, за исключением восьми человек, Всемирным потопом. И в этих восьми человеках заключалось тогда Царство Божье.
После этого Богу угодно было говорить с Авраамом (Книга Бытия 17, 7, 8) и заключить с ним Завет в следующих словах: и Я поставлю Завет мой между Мной и тобой и между потомками твоими после тебя в роды, их, Завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую во владение вечное. В этом соглашении Авраам обещает за себя и за свое потомство повиноваться говорившему с ним Господу как Богу, а Бог со своей стороны обещает Аврааму землю Ханаанскую во владение вечное. И в память и как знамение этого Завета Бог устанавливает сакрамент обрезания. Это именно то, что на зывается Ветхим Заветом и содержит договор между Богом и Авраамом, которым Авраам обязывает себя и свое потомство особенным образом подчиняться положительному закону Бога (ибо подчиняться моральному закону он уже обязался раньше) – нечто вроде присяги на подданство. И хотя имя царь еще не было дано Богу, а имя царство еще не было дано Аврааму и его потомству, однако по существу дело обстояло таким именно образом; именно это было заключение договора, в силу которого устанавливалась особая верховная власть Бога над потомками Авраама и который при его возобновлении Моисеем у горы Синая определенно назван особым царством Бога над евреями; и именно об Аврааме (а не о Моисее) апостол Павел говорит (Послание к римлянам, 4, 11), что он стал отцом всех верующих, то есть тех, которые верны Богу и не нарушают присяги на подданство, данной Богу впервые посредством таинства обрезания, а затем в Новом Завете посредством таинства крещения.
Этот Завет был возобновлен Моисеем у подошвы горы Синая, где Господь приказывает Моисею сказать народу следующие слова: если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим особенным народом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святых. Вместо особенного народа латинский перевод библии ставит: peculium de cunctis populis (уделом из всех народов), английский перевод, сделанный в начале царствования Иакова, ставит: особенным сокровищем для меня сверх всех народов, а французский перевод, сделанный в Женеве, ставит: наиболее драгоценным камнем из всех народов. Но наиболее правильным является первый перевод, как это подтверждается самим апостолом Павлом (Послание к Титу, 2, 14), где он говорит, имея в виду это место, что наш святой Спаситель дал Себя за нас, чтобы очистить Себе народ особенный. В самом деле, по-гречески мы имеем для этого понятия слово περιούσιος, которое обыкновенно противополагается по своему значению слову έπιούσιος, причем последнее обозначает обычное, повседневное или (как в Отче наш) насущное, а первое обозначает то, что сверх насущного, то, что отложено в запас и употребляется особенным образом, то есть именно то, что римляне называют peculium. И этот смысл приведенного места подтверждается мотивировкой, которую Бог дает ему непосредственно в следующих словах: ибо Мо я вся земля, желая этим сказать: все народы мира Мои, но вы Мои не так, а особенным образом. Ибо все они Мои в силу Моего могущества, вы же должны быть Моими в силу вашего собственного согласия и Завета, что является прибавлением к обычному титулу Бога в отношении всех народов.
Это же самое толкование подтверждается снова ясно выраженными словами того же текста: а вы будете у Меня священническим царством и святым народом. Латинское издание Библии переводит это место: regnum sacerdotale (священническое царство), с чем согласуется перевод этого места у апостола Петра (Первое послание Петра, 29): sacerdotium regale – дарственное священство, а также самый институт первосвященства, в силу которого никто, кроме первосвященника, не мог входить в святую святых, то есть никто, кроме него, не мог узнавать волю Бога непосредственно от самого Бога. Упомянутый раньше английский перевод Библии, следуя женевскому переводу, ставит здесь царство священников, под чем может подразумеваться лишь последовательная преемственность одного первосвященника другими; в противном случае этот перевод не согласуется с переводом апостола Петра, а также с прерогативами первосвященника. Ибо никто, кроме первосвященника, не мог информировать народ о воле Божьей, и никакому собору священников не было разрешено входить в святую святых.
Дальнейшим подтверждением нашего толкования является титул священный народ. Ибо священное означает то, что принадлежит Богу на основании особого, а не на основании общего права. Вся земля (как говорится в тексте) принадлежит Богу, но вся земля не называется священной, а лишь то, что выделено специально для служения Богу, как это было с еврейским народом. Одно это место поэтому с достаточной очевидностью показывает, что под Царством Божьим подразумевается собственно государство, установленное (с согласия тех, которые должны стать его подданными) в целях их гражданского управления и для регулирования их поведения не только по отношению к их царю – Богу, но также и по отношению друг к другу согласно правилам справедливости, а также по отношению к другим народам во время мира и войны. Таково именно было то царство, в котором Бог был царем, а первосвященник был (после смерти Моисея) вице-королем или наместником.
Можно привести еще много других мест, ясно подтверждающих наше толкование, например, прежде всего, когда (Книга Царств, 8, 7) старейшины Израиля (возмущенные коррупцией сыновей Самуила) требовали себе царя, огорченный этим Самуил молился Господу, и Господь в ответ сказал ему: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними, из чего очевидно, что сам Бог был тогда их царем, а Самуил не управлял народом, а лишь передавал указания, даваемые ему время от времени Богом.
Дальше то место, где Самуил говорит народу: но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш – царь ваш, из какового места очевидно, что Бог был царем евреев и гражданским правителем их государства.
А после того как израильтяне отвергли Бога, пророки предсказывали его восстановление, например (Книга пророка Исаия, 24. 23): и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме. Тут определенно говорится о царствовании на Сионе и в Иерусалиме, то есть на земле. И (Книга пророка Михея, 4, 7): и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе. Гора Сион находится в Иерусалиме, на земле. И (Книга пророка Иезекииля, 20, 33): живу Я, говорит Господь Бог: рукой крепкой и мышцей простертой и излиянием ярости буду господствовать над вами. И (ст. 37): и проведу вас под же злом и введу вас в узы Завета, то есть Я буду царствовать над вами и заставлю вас исполнять тот Завет, который вы заключили со Мной через Моисея и который вы нарушили вашим восстанием против Меня в дни Самуила и вашим избранием себе другого царя.
И в Новом Завете ангел Гавриил говорит о нашем Спасителе: Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его; и будет Он царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не будет конца. Это тоже царство на земле, за предъявление прав на которое Он был, как враг Цезаря, казнен, причем на Его кресте было написано: Иисус из Назарета, царь иудейский, и Он презрительно был коронован терновым венцом. А о прокламировавших его учениках говорится (Деяния апостолов, 17, 7): и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Царство Божье, таким образом, является реальным царством, а не в метафорическом смысле, и так оно понимается не только в Ветхом, но и в Новом Завете. А когда мы говорим: ибо Тебе принадлежат царство, могущество и слава, то следует подразумевать царство Бога в силу нашего Завета, а не по праву могущества Бога, ибо такого рода царство Бог всегда имеет, так что было бы излишне говорить в нашей молитве: да приидет царство Твое, если мы не подразумеваем под этим восстановления Христом того Царства Божия, которое было прервано бунтом израильтян при избрании ими Саула. Соответствующим образом было бы несообразно говорить: близится царство небесное – или молиться: да приидет царство Твое, если бы это царство продолжалось.
Имеется так много других мест, подтверждающих наше толкование, что нужно было бы удивляться тому, что оно не получило более широкого признания, если бы не то обстоятельство, что это толкование слишком открывает глаза королей на их права в отношении церковного управления. Именно чтобы помешать этому, церковники вместо священнического царства переводят царство священников, ибо они с таким же успехом могли перефразировать царственное священство (как сказано у апостола Петра) в священство царей. И если они вместо особенный народ ставят драгоценный камень или сокровище, то с таким же правом можно было назвать особый полк или особую роту главнокомандующего всей армией драгоценным камнем последнего или его сокровищем.
Коротко говоря, Царство Божье есть гражданское царство, состоявшее прежде всего в обязанности народа Израиля подчиняться тем законам, которые Моисей принес ему с горы Синая и которые после Моисея первосвященник в период исполнения им своих обязанностей сообщал ему со слов херувимов в святая святых. Оно есть то царство, восстановление которого Христом пророки предсказывали, после того как оно было свергнуто избранием Саула, и о восстановлении которого мы ежедневно молимся, когда мы в Отче наш говорим: и да приидет царство Твое, и право на которое мы признаем, когда мы прибавляем: ибо Тебе принадлежит царство, могущество и слава вовеки веков, аминь. Это есть то царство, в прокламировании которого заключалась проповедь апостолов и к которому люди подготовлены учителями Евангелия. Принять это Евангелие (то есть обещать повиновение правлению Бога) значит быть в царстве благодати, ибо Бог милостиво даровал таким, приемлющим Евангелие, благодать быть подданными (то есть детьми) Бога впоследствии, когда Христос придет во всем Своем величии, чтобы судить мир и актуально управлять Своим собственным народом, что названо царством славы. Если бы Царство Божье (называемое также царством небесным в силу великолепия и удивительной возвышенности этого трона) не было тем царством, которое Бог через своих наместников, передававших народу его постановления, имел на земле, то не было бы так много споров и войн из-за вопроса о том, через кого Бог говорит с нами. В этом случае многие священники не стали бы брать на себя труд духовной юрисдикции, и ни один король не стал бы отрицать за ними этого права.
Это буквальное понимание Царства Божия дает нам ключ к правильному пониманию слова святой, ибо это есть слово, которое в Царстве Божьем соответствует тому, что люди в своем царстве обыкновенно называют государственным и королевским.
Король во всякой стране является государственным лицом или представителем всех его собственных подданных. А Бог, царь Израиля, был святым лицом Израиля. Народ, подчиненный какому-нибудь земному суверену, является народом этого суверена, то есть государственного лица. Точно так же евреи, которые были народом Бога, были названы (Исход, 19, 6) святым народом. Ибо под святым всегда понимается или сам Бог, или то, что является собственностью Бога, подобно тому, как под государственным всегда подразумевается или само лицо государства, или нечто, принадлежащее так государству, что никакое частное лицо не может предъявлять на это нрав собственности.
Вот почему суббота (день Бога) является святым днем; храм (дом Бога) является святым домом; жертвоприношения, десятины и приношения (дань Богу) – святой данью; священники, пророки и цари – помазанники Божьи во Христе (служители Бога) – святыми людьми; небесные служебные духи (Божьи вестники) – святыми ангелами и т. п. И везде, где слово святой берется в его собственном значении, оно означает некую собственность, приобретенную с чьего-то согласия.
Когда мы говорим: да святится имя Твое, мы молим Бога, чтобы Он оказал нам милость, укрепив нас в соблюдении первой заповеди: не иметь других богов, кроме Него. Человеческий род является народом Бога в качестве Его собственности, но лишь одни евреи были святым народом. На каком же основании, если не на том, что они стали собственностью Бога в силу заключенного Завета?
И так как слово мирское обыкновенно берется в Писании в том же смысле, что и слово общее, то и их противоположности: святое и собственное – должны означать в Царстве Божьем то же самое. Но фигурально святыми называются также люди, которые вели такой благочестивый образ жизни, что они как будто отреклись от всяких мирских помыслов и всецело предались Богу. В особенном смысле обо всем том, что присвоено Богом или выделено для Его собственного потребления и тем сделано святым, мы говорим, что оно освящено Богом, как, например, седьмой день в четвертой заповеди или как избранники в Новом Завете, о которых говорится, что они были освящены, если они были одарены духом благочестия. И то, что было сделано святым благодаря приношению людей и что дано Богу с тем, чтобы быть использованным исключительно в публичном богослужении, называется освященным и посвященным, как храмы и другие дома общественной молитвы и их утварь, священники, служители, жертвоприношения и внешние принадлежности сакрамента.
В святости имеются степени. Ибо из тех предметов, которые выделены для богослужения, часть может быть еще особо выделена для более интимного и более специального служения. Весь народ израильтян был народом святым, однако колено левитов было среди израильтян святым коленом, а среди левитов более святыми были священники, а среди священников самым святым был первосвященник. Точно так же вся Иудея была святой землей, но святой город, где надлежало славить Бога, был более святым, и опять-таки храм был более свят, чем город, а святая святых была более святой, чем остальная часть храма.
Сакрамент есть изъятие какой-нибудь видимой вещи из общего пользования, посвящение его богослужению как знак или нашего допущения в Царство Божье, чтобы быть в числе его особенного народа, или в память об этом самом. В Ветхом Завете знаком допущения был обряд обрезания, в Новом Завете – крещение. Памятью этого было в Ветхом Завете было вкушение ежегодно в определенное время, в годовой праздник, пасхального ягненка, которое служило для евреев напоминанием о той ночи, в которую они были освобождены от египетского рабства, а в Новом Завете – справление Тайной вечери, напоминающей нам о нашем освобождении от уз греха смертью на кресте нашего блаженного Спасителя. Сакраменты допущения должны совершаться лишь однажды, ибо требуется быть допущенным лишь один раз, но так как нам часто следует напоминать о нашем освобождении и о нашем подданстве, то сакраменты напоминания должны повторяться. Таковы основные сакраменты и как бы наши торжественные присяги на подданство. Имеются еще и другие посвящения, которые могут быть названы сакраментами, поскольку под этим словом подразумевается лишь посвящение для целей богослужения, но поскольку под этим словом подразумеваются присяга или обещание на подданство Богу, то в Ветхом Завете имеются в качестве сакраментов лишь обрезание и пасхальный агнец, а в Новом Завете – лишь крещение и Тайная вечеря.
Глава XXXVI
О Слове Божьем и о пророках
Когда мы говорим о Слове Божьем или человеческом, то под этим подразумевается не какая-либо часть речи, т. е. не то, что грамматики называют существительным или глаголом, и не какой-нибудь простой звук вне связи с другими словами, придающими ему смысл, а законченная речь или рассуждение, при помощи которых говорящий утверждает, отрицает, приказывает, обещает, угрожает, просит или спрашивает. В этом смысле слово означает не vocabulum, a sermo (по-гречески λόγος), т. е. речь, рассуждение или высказывание.
Опять-таки, если мы говорим слово Божье или человеческое, то под этим иногда можно подразумевать говорящего (т. е. слово, которое Бог или человек говорил), в каковом смысле, когда мы говорим: Евангелие от Матвея, мы подразумеваем, что апостол Матвей был автором этого Евангелия; иногда же подразумевается тема, например когда говорится в Библии: летописи дней, царей израильских или иудейских, то подразумевается, что деяния, совершившиеся в эти дни, являются темой этих летописей. И в греческом переводе Библии, сохранившем много гебраизмов, под словом Божьим часто понимается не слово, сказанное Богом, а слово о Боге и о Его царстве, т. е. учение религии, так что по-гречески λόγος Θεοũ означает то же, что теология, т. е. то учение, которое мы обыкновенно называем богословием, как это явствует из следующих цитат (Деяния апостолов 13, 46): тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедовану Слову Божию; но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. То, что здесь названо словом Божьим, было учение христианской религии, как это ясно видно из предшествующего. И (Деяния 5, 20), где ангел говорит апостолам: идите и, став во храме, говорите народу все сии слова жизни. Тут под словами жизни подразумевается учение Евангелия, как это явствует из того, что они делали в храме и что ясно сказано в последнем стихе той же главы: и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Из этой цитаты видно, что Иисус Христос был темой этого слова жизни или (что то же самое) темой слов той вечной жизни, которую наш Спаситель предложил им. Аналогично этому (Деяния 15, 7) Слово Божье названо словом Евангелия, ибо оно содержит учение о царстве Христа, и то же слово названо (Послание к римлянам 10, 8, 9) словом веры, т. е., как там ясно сказано, учением о пришествии Христа и о воскресении Его из мертвых. Точно так же (Евангелие от Матвея 13, 19): когда кто либо услышит слово царства, т. е. учение о царстве, проповедуемое Христом. И о том же слове сказано (Деяния апостолов 12, 24), что оно росло и распространялось, что легко понять в отношении Евангельского учения, но странно было бы думать, что это может относиться к слову или к речи Бога. В том же смысле под дьявольским учением подразумеваются не слова какого-либо дьявола, а то учение о демонах, которое исповедуют язычники, и те фантомы, которые они почитают как богов.
Ввиду этих двух значений, которые имеет выражение Слово Божье в Писании, ясно, что в последнем смысле (где Слово Божье понимается как учение христианской религии) можно говорить, что все Писание есть Слово Божье, но не в первом смысле. К примеру, хотя слова: Я Господь Бог твой и т. д. – в конце десяти заповедей были сказаны Богом Моисею, однако, слова: Бог говорил сии слова и сказал – должны быть понимаемы как слова того, кто писал Священную историю. Слово Божье, взятое как слово, сказанное Богом, понимается иногда в собственном смысле, иногда метафорическом. В собственном смысле – как слово, сказанное Богом Его пророкам; метафорически – в смысле Его мудрости, могущества и неизменных постановлений при сотворении мира. В этом смысле Словом Божьим являются: да будет, да будет свет, да будет твердь, сотворил человека и т. д. (Бытие 1). И в этом же смысле сказано (от Иоанна 1, 3): все через Него начало быть, и без Него ни что не начало быть, что начало быть. И в другом месте (Послание к евреям 1, 3): и держал все словом силы своей, т. е. силой Слова своего, т. е. Своей силой, и дальше (Послание к евреям 11, 3): веки устроены Словом Божиим – и много других мест. В этом же смысле понималось у римлян слово fatum (судьба), означающее собственно сказанное слово.
Во-вторых, под словом иногда понимается действие этого слова, т. е. то именно, что этим словом утверждается, приказывается, угрожается или обещается. Так, например, там, где говорится, что Иосифа держали в темнице, пока не испол нилось Его слово, т. е. пока не исполнилось то, что он предсказал виночерпию фараона относительно Его восстановления в должности, то под исполнением слова подразумевается исполнение самой вещи. В этом же смысле (1-я Книга Царей 18, 36) Илия говорит Богу: я сделал все эти твои слова, вместо: я сделал все это по Твоему слову или приказанию, а также (Книга пророка Иеремии 17, 15): где Слово Господне? вместо: где те бедствия, которыми Бог угрожал? В этом же смысле (Книга пророка Иезекииля 12, 28): ни одно из слов Моих не будет отсрочено, где под словами понимается то, что Бог обещал своему народу. И в Новом Завете (Евангелие от Матвея 24, 35): небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут, т. е. все то, что я обещал, или пред сказал, не может не исполниться. И в этом именно смысле апостол Иоанн Богослов, и, я думаю, он один, называет самого нашего Спасителя ставшим плотью Словом Господним (от Иоанна 1, 14). Слово стало плотью – это значит: слово, или обещание, что Христос придет в мир. Христос был вначале с Богом, т. е. в намерении Бога Отца было послать Бога Сына в мир, чтобы направить людей по путям вечной жизни, но это намерение до этого момента (появления Христа на земле) не было приведено в исполнение, не было воплощено в действительность; так что наш Спаситель назван здесь Словом не потому, что Он был обещанием, а потому, что Он был обещанным. Те, которые, ссылаясь на это место, называют обыкновенно Христа глаголом Бога, затемняют лишь еще более смысл этого текста. Они могли бы с таким же основанием называть Его именем существительным Бога, ибо как под именем существительным, так и под глаголом люди подразумевают лишь часть речи, звук, который не содержит ни утверждения, ни отрицания, ни приказания или обещания и не является субстанцией, ни телесной, ни духовной, и поэтому нельзя сказать о нем, что он Бог или человек, между тем как наш Спаситель является тем и другим. И это Слово, о котором апостол Иоанн в Его Евангелии говорит, что оно было с Богом, названо им словом жизни и в другом месте вечной жизнью, которая была с Отцом, так что Христос мог быть назван Словом лишь в том самом смысле, в каком он назван вечной жизнью, т. е. как тот, который Своим воплощением приобщил нас к вечной жизни. В соответствии с этим (Апокалипсис 19, 13) апостол, говоря о Христе, одетом в платье, омоченное кровью, говорит: Его имя – Слово Божье, что следует понимать так, как если он сказал бы: Его имя есть тот, кто пришел согласно изначальному намерению Бога и согласно Его слову и Заветам, возвещенным пророкам. Таким образом здесь нет речи о воплощении слова, а лишь о воплощении Бога Сына, названного словом потому, что Его воплощение было исполнением обещания, точно таким же образом, как святой Дух назван обетованием.
Имеются также места в Писании, где под словом Божьим подразумеваются слова, сообразные с разумом и справедливостью, хотя и сказанные иногда не пророками и не святыми людьми. Ибо фараон Нехо был идолопоклонником; однако Его слова доброму царю Иосии, в которых он советовал последнему через посланцев не препятствовать Его походу против Кархемиса, были, как сказано в Писании, из уст Господа. И царь Иосия, не послушавшись Его совета, был убит в сражении, как об этом можно прочесть во Второй Летописи 35, 21, 22, 23. Правда, согласно изложению этой самой истории во Второй Книге Ездры не фараон, а Иеремия говорил эти слова Иосии из уст Господа. Однако мы обязаны верить каноническому Писанию, что бы ни говорили апокрифы.
Под Словом Божьим следует понимать также повеления разума и справедливость в тех случаях, когда в Писании сказано, что Слово Божье написано в сердце человека, например Псалтирь 36, 31, Книга пророка Иеремии 31, 33, Второзаконие 30, 11, 14 и много других подобных мест.
Слово пророк означает в Писании иногда посредника, передающего слова Бога людям и слова людей Богу, а иногда прорицателя, предсказывающего то, что должно совершиться в будущем, а иногда человека, говорящего несвязно, как сумасшедшие. Наиболее часто это слово употребляется в значении посредника между Богом и людьми. В этом смысле были пророками Моисей, Самуил, Илья, Исаия и Иеремия. В этом же смысле пророком был первосвященник, ибо он один мог входить в святая святых, чтобы вопрошать Бога и сообщать Его ответ народу.
И поэтому, когда Каиафа сказал, что необходимо, чтобы один человек умер за людей, апостол Иоанн говорит (гл. 11, 51): сие же он сказал не от себя, но, будучи на этот год первосвященником, предсказал, что один человек умрет за народ. Точно так же говорится о тех, которые учили народ на собраниях христиан, что они пророчествовали. В этом же смысле Бог говорит Моисею относительно Аарона (Исход 4, 16): и будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоим устами, а ты будешь ему вместо Бога. То, что здесь называется посредником («будет говорить вместо тебя»), в другом месте (гл. 7, 1) называется пророком: я поставил тебя (говорит Бог) Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком.
В смысле посредника между Богом и человеком назван пророком Авраам (Бытие 20, 7), Бог говорит во сне Авимелеху таким образом: теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. Отсюда также можно заключить, что имя пророка могло быть дано не без основания тем, которые в христианских церквах имели призвание читать публично молитву перед собранием верующих. В этом же смысле говорится о пророчестве тех пророков, которые сходили с высоты (или с холма Божия) с Псалтирью, тимпаном, свирелью и гуслями и с Саулом среди них, т. е. их пророчествование заключалось в том, что они таким образом публично славили Бога. В таком же смысле пророчицей названа Мариам (Исход 15, 20). В этом же смысле следует понимать слова апостола Павла (Первое Послание к коринфянам 11, 4, 5): всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой и т. д. и всякая жена, молящаяся и пророчествующа я с открытой головой, ибо пророчествование в данном месте означает лишь прославление Бога псалмами и святыми песнями, что женщины могли делать в церкви, хотя им не было разрешено говорить перед собранием верующих. И именно в этом смысле поэты язычников, составлявшие гимны и другого рода поэмы в честь их богов, назывались vates (пророками), как это достаточно хорошо известно всем тем, кто знаком с литературой язычников, и как это очевидно из того места Евангелия (Послание к Титу 1, 12), где апостол Павел говорит о критянах, что один пророк из их собственной среды сказал, что они лжецы. Это не значит, конечно, будто апостол Павел считал их поэтов пророками. Это говорит лишь о том, что словом «пророк» обычно обозначались те люди, которые прославляли Бога в стихах.
Когда под пророчеством понимается прорицание или предсказывание будущих событий, то пророками были не только те, которые были посредниками Бога и предсказывали другим то, что Бог предсказывал им, но также и все те обманщики, которые претендуют на общение с духами или суеверно на основании прошлых событий, которые они приписывают ложным причинам, берутся предсказывать такие же события в будущем. Таких обманщиков (как я уже указывал на это в двенадцатой главе этого трактата) имеется много категорий, причем благодаря одному случайному событию, которое лишь может быть истолковано в их пользу, они завоевывают больше доверия у простого народа к их пророческому дару, чем они могут терять при каком угодно числе предсказываний невпопад. Пророчество не есть искусство, а также (если брать это слово в значении прорицания) не постоянное призвание, а лишь необычное и временное дело, поручаемое Богом большей частью благочестивым людям, но иногда и порочным. Женщина из Аэндора, о которой говорится, что она была волшебницей и вызвала тень Самуила и предсказала смерть Саула, не была поэтому пророчицей, ибо она не обладала каким-либо знанием, при помощи которого она могла бы вызвать такое привидение, а также ниоткуда не видно, чтобы Бог повелел вызвать эту тень. Бог лишь сделал так, чтобы этот обман устрашил Саула, и вселил в него уныние, которое привело к Его поражению и смерти. А что касается бессвязной речи, то она считалась среди язычников видом пророчества, так как пророки их оракулов, отуманенные духами или парами пещеры пифийского оракула в Дельфах, становились на время действительно умалишенными и говорили, как сумасшедшие, так что их бессвязным словам можно было придавать смысл, соответствующий любому исходу событий, подобно тому как все тела, согласно утверждению некоторых, составлены из первичной материи. Такой смысл понятия пророчества я нахожу также в Писании в следующих словах (1-я Книга Самуила 18, 10): напал злой Дух на Саула, и он пророчествовал в доме своем.
Однако хотя слово «пророк» употребляется в Писании и во многих значениях, наиболее часто оно все же применяется к таким людям, которым Бог говорит непосредственно то, что они должны передать от Его имени некоторым другим людям или народу. И тут может возникнуть вопрос о том, каким образом Бог говорит с таким пророком. Сообразно ли говорить (может кто-нибудь спросить), что Бог имеет голос и язык, когда нельзя говорить, что Он подобно человеку, обладает языком или другими органами? Пророк Давид аргументирует следующим образом: может ли тот, кто сотворил глаз, не видеть, или тот, кто сотворил ухо, не слышать? Но это может быть сказано не для того, чтобы обозначить этим природу Бога, а лишь для обозначения нашего намерения почитать его. Ибо видеть и слышать почетные атрибуты и приписываются они Богу, чтобы характеризовать Его всемогущество (поскольку мы способны постигнуть Его). Ибо если мы должны были бы понимать эти слова Давида буквально и в собственном смысле, то можно было бы от того факта, что Бог создал и другие части человеческого тела, аргументировать, что Бог пользуется ими для тех же целей, что и мы. Но думать так в отношении многих из этих частей было бы так непристойно, что было бы величайшим поношением Бога приписывать ему это. Поэтому, когда говорится, что Бог говорил с людьми непосредственно, мы должны это толковать так, что Бог тем или иным путем дал этим людям понять Его волю. А путей, которыми Бог это делает, имеется много, и их следует искать лишь в Священном Писании. Ибо, если много раз там говорится, что Бог говорил с тем или другим лицом, не объявляя, каким образом, то, с другой стороны, имеется там много мест, в которых сообщаются те знамения, при помощи которых эти лица должны были узнать Его присутствие и Его повеления, и из этих мест можно понять, каким путем Бог говорил с остальными.
О том, в какой форме Бог говорил с Адамом, Евой, Каином и Ноем, ничего не сказано, точно так же не сказано, как Он говорил с Авраамом до того момента, когда Авраам из Своей страны в Сихеме пришел в землю Ханаанскую. А тогда говорится, что Бог явился ему. Таким образом одним из путей, которыми Бог обозначил свое присутствие, было явление или видение. И еще раз (Бытие 15.1) было слово Господа к Аврааму в видении, т. е. нечто как знамение присутствия Господа явилось, как Божий вестник, чтобы говорить с Ним. Также Господь явился Аврааму в явлении трех ангелов, а Авимелеху во сне, Лоту – в явлении двух ангелов, Агари – в явлении одного ангела. И опять Аврааму – в явлении голоса с неба и Исааку – ночью (т. е. во сне) и Иакову – во сне, т. е. (как текстуально сказано) Иакову снилось, что он видел лестницу и т. д., и в видении ангелов. И Моисею Он явился в явлении пламени огня из среды тернового куста. И после жизни Моисея (где уже объясняется, в какой форме Бог говорил непосредственно с человеком) Он всегда говорил посредством видения или сна, так, например, Гедеону, Самуилу, Илье, Элише, Исаии, Иезекиилу и другим пророкам, и часто в Новом Завете, например Иосифу, апостолу Петру, апостолу Павлу и апостолу Иоанну-Евангелисту в Апокалипсисе.
Только с Моисеем Бог говорил в более необычной форме на горе Синае и в скинии, а также с первосвященником в скинии и в святая святых храма. Но Моисей, а после него первосвященники были пророками, пользовавшимися особенным благоволением Бога. И Бог сам в ясных словах объявил, что с другими пророками он говорит в видениях и снах, но с рабом Своим, Моисеем, Он говорит таким образом, как бы говорил человек с другом Своим. Вот слова Бога (Числа 12, 6, 7, 8): если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю Я с ним; но не так с рабом моим Моисеем; он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. И (Исход 33, 11): и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом Своим. И тем не менее это общение Бога с Моисеем происходило через посредство ангела или ангелов, как это ясно видно из Деяний апостолов 7, ст. 35 и 53 и из Послания к галатам 3, 19, и, следовательно, это было видение, хотя более яркое, чем то, которое давалось другим пророкам. И соответственно этому, когда Бог говорит (Второзаконие 13, 1): если восстанет среди тебя пророк или сновидец, то последнее слово является лишь объяснением первого. И в другом месте (Книга пророка Иоиля 2, 24): и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, где опять слово пророчество объясняется как сон или видение. И таким же образом Бог говорил с Соломоном, обещая ему мудрость, Богатство и славу, ибо в тексте сказано (1-я Книга Царей 3, 15): и пробудился Соломон, и вот это было сновидение. Таким образом, все пророки Ветхого Завета, не бывшие пророками по призванию, получали слово Господне исключительно через свои сны и видения, т. е. через свои представления, которые они имели во сне или в экстазе, каковые представления были сверхъестественны во всяком истинном пророке, естественны или вымышлены во всяком лжепророке.
Тем не менее об этих самых пророках говорится, что они говорили духом. Например, в Книге пророка Захарии 7, 12, где пророк говорит о евреях: и сердце свое окаменил и, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков. Из этой цитаты явствует, что общение с Богом при посредстве духа или вдохновения не было формой, отличной от видения, в тех случаях, когда те, о которых говорится, что они пророчествовали, преисполненные духа, не были пророками по призванию, т. е. были такими пророками, которые перед каждым посланием должны были получить специальное поручение или (что то же самое) новый сон или видение.
Из пророков Ветхого Завета, которые были таковыми по постоянному призванию, некоторые были верховными, а некоторые подчиненными. Верховным пророком был прежде всего Моисей, а после него первосвященники, каждый для своего периода, до тех пор пока священство было царственным.
Когда же евреи отвергли Бога, не пожелав, чтобы он дольше царствовал над ними, главными пророками Бога были те цари, которые подчинялись Его власти, а должность первосвященников стала служебной. А когда требовалось вопросить о чем-либо Бога, первосвященники облачались в священную одежду и спрашивали Бога о том, о чем им приказывал царь. И первосвященники лишались своего сана по усмотрению царя. Ибо царь Саул приказал привести к нему то, что назначено для жертвы всесожжения, и он приказывает священнику принести кивот Божий, а затем, увидев свое преимущество над врагами, приказывает оставить его. И в той же главе Саул спрашивает совета Бога. Точно так же и царь Давид после своего помазания, хотя еще до того, как он получил царство, вопрошает Бога, идти ли ему против филистимлян в Кейль, и дальше Давид приказывает священнику принести ефод, чтобы вопрошать Бога, оставаться ли ему в Кейле или нет. А царь Соломон отнял священство у Авиафара и отдал Его Садоку. Вот почему верховными пророками были Моисей и первосвященники и благочестивые цари, вопрошавшие Бога во всех критических обстоятельствах, как им поступать. Однако неясно, в какой форме Бог говорил с ними. Сказать, что когда Моисей взошел к Богу на гору Синай, то это был сон или видение, как это имели другие пророки, противоречило бы тому различию, которое Бог сделал между Моисеем и другими пророками. Сказать, что Бог говорил или явился как Он есть, в Его собственном естестве, значит отрицать Его бесконечность, незримость и непостижимость. Сказать, что Он говорил посредством вдохновения или наполнения Святым Духом, как священное Писание обозначает Божественность, значит приравнивать Моисея Христу, в котором одном (как говорит апостол Павел в Послании к колоссянам 29) обитает вся полнота Божества телесно. Сказать, наконец, что Бог говорил при посредстве Святого Духа, понимая под последним милости и дары Святого Духа, значит не приписывать Моисею ничего сверхъестественного. Ибо Бог располагает людей к благочестию, справедливости, милосердию, правдивости и вере и ко всякого рода добродетелям, моральным и интеллектуальным, учением, примерами и разными другими обычными естественными мерами.
И как нельзя приписывать этих путей Богу в Его общении с Моисеем на горе Синае, точно так же они не могут быть приписаны Ему в Его общении с первосвященниками с покрышки Кивота Завета. Непостижимо поэтому, в какой форме Бог говорил с теми верховными пророками Ветхого Завета, на обязанности которых лежало вопрошать Его. В эпоху Нового Завета не было верховного пророка кроме нашего Спасителя, который был одновременно Богом, который говорил, и пророком, с которым он говорил.
В отношении подчиненных пророков, имевших постоянное пророческое призвание, я не нахожу ни одного места, из которого следовало бы, что Бог говорил с ними сверхъестественным образом. Наоборот, из всего видно, что он общался с ними в такой форме, как Он естественно располагает людей к благочестию, к вере, к праведной жизни и ко всяким другим христианским добродетелям. И хотя все эти качества обусловливаются характером, учением, воспитанием, поводами и призванием, которые люди имеют к христианским добродетелям, однако они правильно приписываются действию Духа Господня, или Святого Духа, ибо нет ни одной хорошей склонности, которая не была бы делом Бога. Однако эти действия не всегда имеют сверхъестественный характер. Поэтому там, где сказано, что пророк говорил в Духе или Духом Господним, то это надо лишь так понимать, что он говорил в соответствии с волей Божьей, возвещенной верховным пророком. Ибо в наиболее общепринятом значении слова Дух есть человеческое намерение, человеческий разум или Его склонность.
Во времена Моисея было, кроме него, еще семьдесят человек, которые пророчествовали в стане Израиля. В какой форме Бог говорил с ними, сказано в Числах, гл. 11, 25: и сошел Господь в облаке и говорил с Моисеем, и взял от Духа, который на Нем, и дал семидесят и мужам-старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать и не перестали. Отсюда, во-первых, ясно, что их пророчество народу было подчинено пророчеству Моисея, ибо Господь взял от духа Моисея и дал им, так что они пророчествовали, как это хотел Моисей, в противном случае им запретили бы пророчествовать. В самом деле, Моисею была принесена жалоба на них, и Иисус просил Моисея запретить им пророчествовать. Но Моисей не внял этой просьбе и сказал Иисусу: Не ревнуй меня. Из приведенной выше цитаты вытекает, во-вторых, что Дух Божий в указанной цитате означает лишь намерение и склонность повиноваться Моисею и содействовать ему в Его работе по управлению. Ибо, если мы должны были бы понимать это так, что они имели субстанциальный Дух Бога, т. е. что Бог вдохнул в них свою Божественную природу, тогда они были бы не ниже Христа, в котором одном Божественный Дух обитал телесно. Вот почему это надо понимать так, что дар и милость Бога направляли их на путь кооперирования с Моисеем, от которого они получили свой Дух. И по-видимому, это были люди, которых сам Моисей назначил старейшинами и надзирателями народа. Ибо слова были: собери мне семьдесят мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, где слова «ты знаешь» означают то же, что «ты назначаешь» или «назначил таковыми». В самом деле, раньше (Исход 18, 24) было сказано, что Моисей, послушавшись совета тестя своего, Иофора, назначил богобоязненных людей судьями и начальниками над народом. И из среды этих последних были те семьдесят мужей, которых Бог, давши им от Духа Моисея, побудил помогать Моисею в управлении царством. И в этом же смысле говорится (1-я Книга Самуила 16, 13, 14), что немедленно по помазании Давида Дух Господень почил на Давиде и отступился от Саула, т. е. Бог дал Свои милости тому, кого он избрал управлять Своим народом, и отнял их у того, кого Он отвергнул. Таким образом, под Духом подразумевается склонность служить Богу, а не сверхъестественное откровение.
Бог много раз также говорил в форме исхода жребия, назначенного теми, кого Он поставил властями над Своим народом. Так, мы читаем (1-я Книга Самуила 14, 43), что посредством жребия, который Саул приказал бросить, Бог открыл вину Ионафана, вкушавшего против заклятия, наложенного на себя народом, медовый сот. Точно так же Бог разделил землю Ханаанскую среди израелитов путем жребия, брошенного Иисусом перед Господом в Силоме» (Книга Иисуса 18, 10). По-видимому, таким же путем Бог открыл преступление Ахана (Книга Иисуса 7, 15 и дальше). И таковы пути, которыми Бог открывал свою волю в Ветхом Завете.
И такими же путями Бог пользовался в Новом Завете. Деве Марии Он является в видении ангела; Иосифу – во сне; также апостолу Павлу по пути в Дамаск – в видении нашего Спасителя; апостолу Петру – в виде полотна, спущенного с неба с разного рода чистыми и нечистыми животными на нем; и в темнице – в видении ангела; и всем апостолам и авторам Нового Завета – в милостях Его Духа; и апостолам при избрании Матвея вместо Иуды Искариота – опять в форме жребия.
В виду того что всякое пророчество предполагает видение, или сон (что одно и то же, если они естественны), или какой-нибудь специальный дар Бога, так редко наблюдаемый в человеческом роде, что он вызывает наше удивление там, где мы Его замечаем, и ввиду того что такие дары, как самые необычайные сны и видения, могут проистекать от Бога не только путем Его сверхъестественного и непосредственного действия, но также и путем Его естественного действия и при посредстве вторичных причин, то необходимо разумом и суждением различать между естественными и сверхъестественными дарами и между естественными и сверхъестественными видениями и снами. Поэтому мы должны быть осторожны и осмотрительны, прислушиваясь к голосу человека, который, выдавая себя за пророка, требует от нас, чтобы мы повиновались Богу тем путем, который он от имени Бога указывает нам как путь к блаженству. Ибо тот, кто замышляет указывать людям пути такого великого блаженства, замышляет господствовать над ними, т. е. управлять ими и царствовать над ними, а это есть нечто, чего все люди естественно добиваются. Вот почему такой человек может быть с полным основанием заподозрен в честолюбии и обмане, и, прежде чем оказывать ему повиновение, он должен быть каждым человеком подвергнут испытанию и искусу, если только обязательство такого повиновения не было взято на себя при установлении государства, как, например, в том случае, когда пророк является гражданским сувереном или уполномочен таковым. И если бы такое испытание пророков и духов не было разрешено всякому человеку из народа, то незачем было бы устанавливать те признаки, на основании которых человек был бы способен различать между теми, которым он должен следовать, и теми, которым он не должен следовать. Ввиду того, что такие признаки, при помощи которых можно узнать пророка и можно узнать Дух, указаны и ввиду столь многих пророчеств в Ветхом Завете и столь многих проповедей в Новом Завете против пророков и ввиду также того, что число лжепророков обыкновенно значительно превышает число истинных, всякий человек под страхом собственной гибели должен с большой осторожностью подчиняться руководству человека, выдающего себя за пророка. И, во-первых, что лжепророков было больше истинных, видно из того факта, что, когда Ахав вопросил четырехсот пророков, то они все, за исключением одного Михея оказались лжепророками. А незадолго перед периодом плена пророки обычно были лжецами. Пророк и пророчествуют (говорит Господь у Иеремии 14, 14) ложное именем Моим: я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. И явление лжепророков было настолько общераспространенным, что Господь устами пророка приказал народу не повиноваться им (Иеремия 23, 16): так, говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам; они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.
Принимая во внимание те пререкания, которые имели место в эпоху Ветхого Завета между пророками-духовидцами, когда один оспаривал другого, спрашивая: неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе? – как это имело место между Михеем и остальными четырьмястами пророками, и те взаимные обвинения друг друга в лживости (как в Иеремии 14, 44), а также споры в наши дни в отношении Нового Завета между духовными пророками, всякий человек был тогда обязан и сейчас обязан использовать свой естественный разум, чтобы применить ко всякому пророчеству те правила, которые Бог дал нам в целях различения между истинным и ложным пророком. Этих правил в Ветхом Завете указывалось два, из которых одно заключалось в соответствии учения пророка тому, чему верховный пророк Моисей учил евреев, а второе – в чудодейственной силе предсказывать то, что будет исполнено Богом, как я уже показал это на основании Второзакония 13, 1. А в Новом Завете указывается лишь один признак, а именно проповедь учения, что Иисус есть Христос, т. е. царь иудейский, предсказанный Ветхим Заветом. Всякий, отрицавший этот догмат, был лжепророком, какие бы чудеса он с виду ни творил, а всякий, учивший ему, был истинным пророком. Мы видим, что апостол Иоанн Богослов (1-е Послание 4, 2 и далее), говоря о средствах испытания духов, от Бога ли они или нет, указывает на то, что много появилось лжепророков, а затем говорит дословно: духа Божия узнавайте так: всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, есть от Бога, т. е. он испытан и одобрен, как пророк от Бога. При этом то обстоятельство, что он признает, исповедует и проповедует, что Иисус есть Христос, не говорит о том, что он является благочестивым человеком или одним из избранных, а лишь о том, что Он признанный пророк. Ибо Бог иногда говорит устами таких пророков, личность которых не находила у него благоволения, как он например говорил устами Валаама или как Он предсказывал Саулу Его смерть устами волшебницы в Аэндоре. И дальше в следующем стихе: а всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога, но это Дух антихриста. Таким образом, нам преподается здесь правило, точно очерченное как положительно, так и отрицательно: истинный пророк тот, кто проповедует, что Мессия уже пришел в лице Иисуса, а ложный пророк тот, кто отрицает Его пришествие и ждет какого-то будущего обманщика, который обманным образом присвоит себе эту честь и которого апостол подразумевает здесь под именем антихриста. Всякий человек поэтому обязан принять в соображение, кто является верховным пророком, т. е. кто является вице-королем Бога на земле и имеет непосредственно после Бога власть управлять христианами и руководствоваться как правилом тем учением, которому этот наместник Бога приказал учить и на основании этого учения испытать и проверять истинность тех учений, которые мнимые пророки, безразлично, совершают ли они чудеса или нет, будут когда-либо распространять. И если будет найдено, что эти учения противоречат указанному правилу, то всякий обязан поступать так, как поступили те, кто донес Моисею, что некоторые люди пророчествуют в стане, в праве которых на это они сомневаются, и предоставить своему суверену, как это сделали те по отношению к Моисею, разрешить или запретить этим пророкам продолжать свое дело. И если суверен не признает этих пророков, то всякий обязан не прислушиваться больше к их голосу; если же суверен одобрит их, то всякий обязан повиноваться им как людям, которым Бог дал часть духа Его суверена. В самом деле, если христиане не считают своего христианского суверена за пророка Господня, тогда они должны или принимать свои собственные сны за пророчества, которыми они предполагают руководствоваться, и мечты своего сердца за Дух Божий, или же они должны давать руководить собой каким-нибудь иностранным князьям или некоторым из Своих сограждан, которые, не представляя других чудес в подтверждение своего призвания, кроме необычайного успеха, иногда и безнаказанности, могут клеветой на правительство вовлечь христианских подданных в мятеж и этим путем разрушить все законы Божеские и человеческие и, опрокинув всякий порядок и правительство, ввергнуть общество в первоначальный хаос насилия и гражданской войны.
Глава XXXVII
О чудесах и об их употреблении
Под чудесами подразумеваются удивительные дела Бога, и поэтому они называются также дивами. И так как они совершаются в большинстве случаев Богом для обозначения Его повелений в тех случаях, когда без них люди склонны (следуя своему частному естественному разуму) сомневаться в том, что Бог приказал и чего Он не приказал, то чудеса называются в Священном Писании также знамениями в том же смысле, как римляне называли их ostenta и portenta, то есть показатели и предзнаменования того, что Бог намерен совершить.
Поэтому для понимания того, что такое чудо следует прежде всего знать, каким делам люди дивятся и что они называют удивительным. И таких дел, которым люди во всех случаях дивятся, имеются две категории. К первой категории относится то, что странно, то есть то, подобно чему никогда или весьма редко было произведено; ко второй категории относится то, относительно чего мы не можем себе представить, чтобы оно было произведено естественным путем, а можем думать лишь, что оно произведено непосредственно рукой Бога.
Если же мы усматриваем возможную естественную причину того, что совершается, или если подобное этому совершалось часто, то хотя бы в первом случае мы имели дело с действием, подобное которому совершалось редко, а во втором случае с таким, относительно которого мы не можем себе представить, чтобы оно было совершено естественными средствами, мы ни в том, ни в другом случае не удивляемся и не считаем этого чудом.
Поэтому если бы лошадь или корова заговорили, то это было бы чудом, ибо это и странно, и трудно себе представить естественную причину этого. Точно так же нам показалось бы странным, если бы природа произвела новый вид живых существ. Но когда человек или животное производят свое подобие, то хотя это нам не более понятно, чем предыдущее, однако так как это обычное явление, то это не является чудом. Точно так же было бы чудом как нечто странное, если бы человек превратился в камень или столб, но если такое превращение происходит с куском дерева, то это не чудо, так как мы это часто наблюдаем, и, однако, мы в последнем случае не больше знаем, чем в первом, каким образом это Бог производит.
Первая радуга, показавшаяся в мире, была чудом, так как она была первой и поэтому представлялась странной, и она служила знамением, помещенным Богом на небе, чтобы заверить свой народ в том, что всеобщее разрушение мира потопом больше не повторится. Но так как в наше время радуги бывают часто, то они не являются чудесами ни для тех, которые знают их естественную причину, ни для тех, которые ее не знают. С другой стороны, есть много редких вещей, произведенных человеческим искусством, но так как мы знаем, что они произведены людьми и при этом знаем те способы, при помощи которых они были произведены, то мы не считаем их чудесами, ибо они не произведены непосредственно рукой Бога, а человеческим трудолюбием.
Больше того, так как удивление и изумление обусловлены знанием и опытом, которыми люди обладают, причем этим знанием и опытом некоторые люди обладают в большей степени, другие в меньшей степени, то отсюда следует, что одна и та же вещь может быть чудом для одного и не быть чудом для другого. Этим объясняется, что невежественные и суеверные люди выражают огромное удивление по поводу таких дел, которым другие люди, знающие их обусловленность природой (которая является не непосредственным, а обычным делом Бога), вовсе не удивляются. Так, например, было время, когда затмение солнца и луны считалось простым народом сверхъестественным явлением, между тем как были другие люди, которые в силу знания естественных причин этих явлений могли предсказывать и самый час их наступления, или, например, когда человек, получив путем заговора и секретных осведомителей сведения о частных действиях невежественного и неосторожного человека, говорит последнему, что он делал в прежнее время, то это представляется его собеседнику чудом, между тем как среди умных и осторожных людей подобные чудеса вообще не могут совершаться.
Существенным признаком чуда, далее, является то, что оно совершается с целью создания доверия к вестникам, служителям и пророкам Бога, с тем чтобы люди знали, что эти вестники, служители и пророки призваны, посланы и назначены Богом, и в силу этого были бы более склонны повиноваться им. И поэтому хотя Сотворение мира, а после этого уничтожение всех живых существ во Всемирном потопе были изумительными делами, однако, так как они не были совершены с целью создания доверия к какому-нибудь пророку или служителю Бога, они обыкновенно не называются чудесами. Ибо как бы изумительно ни было какое-нибудь дело, наше изумление ему обусловливается не тем, что оно могло быть совершено, так как люди естественно верят, что всемогущий может все совершить, а тем, что оно совершено по просьбе или слову человека. Однако дела, совершенные Богом через Моисея в Египте, были чудесами в собственном смысле, так как они были совершены в намерении заставить народ Израиля верить, что Моисей пришел к ним не из каких-либо побуждений личного интереса, а как посланец Бога. Вот почему, после того как Бог повелел ему освободить народ израильский от египетского рабства, когда Моисей сказал ему: они не поверят мне и скажут те явился тебе Господь, Бог дал ему силу превратить жезл, который он держал в руке, в змея, а затем опять превратить его в жезл, а также, положив руку к себе в пазуху, сделать ее покрытой проказой и, положив ее опять к себе в пазуху, сделать ее снова здоровой. И это для того, чтобы сыны Израиля поверили, что Бог их отцов явился ему. И если бы это оказалось недостаточным, то Он дал ему силу превратить их воду в кровь. И когда Он совершил эти чудеса перед народом, тогда, как сказано, народ поверил Ему. Тем не менее, боясь фараона, народ не посмел повиноваться Ему. Поэтому все другие дела, заключавшиеся в наведении казней на фараона и на египтян, имели целью заставить народ израильский поверить Моисею и были чудесами в собственном смысле этого слова. Точно так же, если рассмотрим все чудеса, совершенные Моисеем и остальными пророками до эпохи плена, а после этой эпохи нашим Спасителем и Его апостолами, то мы найдем, что их целью было породить или укрепить веру в то, что они пришли не по собственному побуждению, а посланы Богом. Мы можем дальше заметить в Писании, что целью чудес было породить веру не у всех людей, как у избранных, так и у отвергнутых, а лишь у избранных, то есть у таких, которые по постановлению Бога должны были стать Его подданными. Ибо эти чудеса египетских казней не имели своей целью обращение фараона, так как Бог заранее говорил Моисею, что он ожесточит сердце фараона, чтобы он не отпустил народа. А когда фараон отпустил наконец сынов израилевых, то он это сделал не потому, что чудеса убедили его, а потому, что казни вынудили его к этому. Точно так же сказано о нашем Спасителе (Евангелие от Матвея, 13, 58), что Он «не совершил многих чудес в Своей собственной стране» по неверию их, а в Евангелии от Марка 6, 6 вместо не совершил многих сказано: не мог совершить там никакого чуда. Не мог Он не потому, что Он не имел силы, ибо думать так было бы богохульством, а также не потому, что целью чудес не было обращение неверующих людей к Христу, ибо целью всех чудес, совершенных как Моисеем и пророками, так и нашим Спасителем и Его апостолами, было приобщение людей к церкви, но это было потому, что целью их чудес было приобщение к церкви не всех людей, а лишь таких, которые должны спастись, то есть таких, которых Бог избрал. Принимая во внимание, что наш Спаситель был послан Богом Отцом, Он не мог употребить свою силу для обращения таких людей, которых последний отвергнул. Те, которые, объясняя это место у апостола Марка, говорят, что слова «не мог» поставлены здесь вместо «не хотел», не могли бы подкрепить своего утверждения никаким другим примером из греческого языка. Ибо в греческом языке «не хотел» ставится иногда вместо «не мог» в отношении неодушевленных вещей, не имеющих своей воли, но «не мог» вместо «не хотел» никогда не употребляется, и это является камнем преткновения для слабых христиан, ибо выходит так, будто Христос мог совершать чудеса лишь среди верующих.
Из сказанного мной о природе и об употреблении чуда можно вывести следующее его определение: чудо есть деяние Бога (сверх Его деяний путем природы, установленной при Сотворении мира), совершенное для того, чтобы с делать ясной для Его избранных миссию необычайного служителя, посланного для их спасения.
И из этого определения мы можем вывести, во-первых, что во всех чудесах совершенное деяние не является следствием какой-либо силы в пророке, так как оно является непосредственным делом рук Бога, то есть Бог совершил его, не используя при этом пророка в качестве подчиненной причины.
Во-вторых, что никакой дьявол, ангел или какой-нибудь другой сотворенный дух не могут совершать чудес. Ибо они могли бы совершить или силой какого-нибудь естественного знания, или силой колдовства, то есть силой слов. Но если колдуны совершают свои деяния своей собственной независимой силой, то, значит, имеется сила, не проистекающая от Бога, что все люди отрицают; если же они совершают их силой, данной им, тогда, значит, это не непосредственное дело рук Бога, а естественное и, следовательно, не чудо.
Имеются некоторые тексты в Писании, приписывающие, по-видимому, способность совершать чудеса, равные некоторым из тех, которые совершил сам Бог, некоторым искусствам магии и колдовства. Мы читаем, например, что, после того как жезл Моисея, брошенный на землю, превратился в змея, волхвы египетские сделали то же своими чарами и что, после того как Моисей силой Бога вывел жаб на землю египетскую, то же сделали волхвы египетские чарами своими; и вывел и жаб на землю египетскую. Не придет ли кто-либо в искушение привести это место и другие подобные места в подтверждение того, что чудеса могут быть совершены силой колдовства, то есть силой звуков слов? Ведь в Писании нет ни одного места, которое говорило бы нам, что такое колдовство. Если поэтому колдовство не есть, как многие думают, результат непонятного действия заговариваний и слов, а обман и иллюзия, совершенные обычными и настолько далекими от сверхъестественных средствами, что обманщики для совершения своих деяний нуждаются в изучении не столько естественных причин, сколько обычного невежества, тупости и суеверия людей, если это так, то эти тексты, которые невидимому подтверждают силу магии, чародейства и колдовства, должны иметь другой смысл, чем тот, который они на первый взгляд имеют.
В самом деле, достаточно ясно, что слова могут оказать действие только на тех, кто их понимает; и это действие может заключаться лишь в том, чтобы обозначить намерения или страсти тех, которые говорят, и этим вызвать надежду, опасение или другие страсти у слушателей. Вот почему, когда жезл кажется змеем, вода кровью или какое-нибудь другое чудо представляется совершенным путем колдовства, то, если это не совершается для поучения избранного народа, ни жезл, ни вода, ни какой-нибудь другой предмет не являются заколдованными, то есть измененными под влиянием слов, а лишь зритель. Так что все чудо состоит в том, что колдун обманул человека. А это – не чудо, а нечто, что легко совершить. В самом деле, невежество и склонность к ошибкам, присущие всем людям вообще, а особенно тем из них, которые обладают незначительными знаниями естественных причин и природы и интересов людей, таковы, что ими легко злоупотреблять при помощи многочисленных и легких трюков. Какое мнение о своей чудодейственной силе мог бы приобрести человек, который в те времена, когда еще не было известно о существовании науки о движении звезд, предсказал бы народу час или день затмения солнца? О каком-нибудь фокуснике, жонглирующем своими стаканами и другими безделушками, если бы это не так часто практиковалось, думали бы, что он совершает свои чудеса при помощи по крайней мере дьявола.
Человек, который долгим упражнением приобрел способность говорить, втягивая дыхание внутрь (какого рода люди в древности назывались чревовещателями), и таким образом создать иллюзию, будто слабость его голоса проистекает не из слабости движения его органов речи, а от отдаленности расстояния, может заставить многих людей поверить, будто все, что ему угодно говорить им, есть голос с неба. И для хитрого человека, выведавшего все тайные и интимные признания, которые один человек обычно делает другому о своих прошлых деяниях и приключениях, нетрудно пересказать их автору этих признаний, и тем не менее есть много людей, которые такими средствами приобрели репутацию гадальщиков. Было бы, впрочем, слишком долго перечислять разные сорта тех людей, которых греки называли Thaumaturgi, то есть делателями изумительных вещей, и тем не менее то, что эти люди делают, они делают исключительно благодаря своей ловкости. Если же мы посмотрим на обманы, совершающиеся путем сговора, тогда можно заставить верить самым невозможным вещам. Если двое сговариваются, чтобы одни прикинулся хромым, а другой его вылечил чарами, то такие могут обмануть многих; если же многие сговариваются, чтобы один из них прикинулся хромым, другой его вылечил указанным образом, а все остальные засвидетельствовали бы это, то такие могут обмануть еще более широкий круг людей.
При этой склонности людей к легковерию в отношении мнимых чудес не может быть лучшей и, как я думаю, другой меры предосторожности, чем та, которую Бог предписал впервые через Моисея в начале тринадцатой и в конце восемнадцатой глав Второзакония, на что я указал уже в предшествующей главе этого трактата, а именно что мы не должны принять за пророка того, кто учит другой религии, чем та, которую установил наместник Бога, каковым в то время был Моисей, а также и того, который хотя и учит той же религии, но предсказание которого мы не видим исполненным. Поэтому, прежде чем отнестись с доверием к какому-нибудь мнимому чуду или пророку, нужно было справиться у Моисея в его время, у Аарона и его преемников в их время, а во все времена следует справляться у верховного, непосредственно после Бога, правителя народа Божия, то есть у главы церкви, насчет того учения, которое этот мнимый пророк устанавливает. А когда это сделано, мы должны по отношению к тому деянию, которое выдается за чудо, во-первых, видеть, что оно совершается, а во вторых, удостовериться всеми возможными средствами в том, что оно действительно было совершено. Мало того, мы должны еще рассмотреть, является ли это таким деянием, подобного которому ни один человек не мог бы совершить естественной силой, так что оно необходимо предполагает непосредственный перст Божий. И в этих последних вопросах решение должно быть предоставлено наместнику Бога, которому мы во всех сомнительных случаях подчинили наше частное суждение. Например, если человек утверждает, что после нескольких слов, произнесенных над куском хлеба, Бог немедленно сделал этот кусок хлеба не хлебом, а Богом или человеком или тем и другим и, тем не менее, этот хлеб выглядит хлебом, как и раньше, то никто не имеет основания верить, что чудо действительно совершилось, и, следовательно, бояться того, кто утверждает это, пока мы не запросили Бога через Его наместника, совершилось ли чудо или нет. Если наместник Бога говорит, что чудо не совершилось, тогда следует то, что Моисей говорит (Второзаконие, 18, 22): он говорил сие по дерзости своей – не бойся его. Если же наместник Бога говорит, что чудо совершилось, то мы не должны прекословить ему. Точно так же, если мы не видим, а лишь слышим рассказ о каком-нибудь чуде, мы должны справиться у законной церкви, то есть у главы ее, в какой мере мы обязаны верить таким рассказчикам. И так бывает преимущественно с людьми, которые в наше время живут под властью христианских монархов. Ибо в наше время я не знаю ни одного человека, видевшего когда-либо какое-нибудь вызывающее удивление деяние, которое было бы совершено колдовством, словами или молитвой и которое человек, одаренный хоть посредственным разумом, считал бы сверхъестественным. И вопрос теперь не в том, является ли чудом то, что совершается как таковое перед нашими глазами, или являются ли реальным делом, а не деянием языка или пера те чудеса, о которых мы слышим или читаем, а просто в том, является ли правдой или ложью рассказ о них. И в этом вопросе всяким человеком должен быть сделан судьей не его собственный разум или совесть, а государственный разум, то есть разум верховного наместника Бога. И мы уже фактически сделали последнего судьей, раз мы ему дали верховную власть делать все, что необходимо для нашего мира и защиты. Частный человек волен, так как мысль свободна, верить или не верить в душе тем деяниям, которые выдавались бы за чудеса, в зависимости от того, какие блага могут, по его предположению, проистечь от человеческой веры для тех, которые претендуют на совершение чудес, или для тех, которые их поддерживают, и на основании этого он будет решать, были ли указанные деяния чудесами или ложью. Но когда дело доходит до исповедания веры, частный разум должен подчиниться государственному, то есть разуму наместника Бога. Однако кто является этим наместником Бога и главой церкви, это будет рассмотрено в надлежащем месте после.
Глава XXXVIII
О том, что понимается в Писании под вечной жизнью, адом, спасением, будущей жизнью и искуплением
Так как сохранение гражданского общества зависит от правосудия, а правосудие – от власти над жизнью и смертью и другими меньшими наградами и наказаниями, власти, присвоенной тем, которые имеют верховную власть в государстве, то не может сохраниться государство, в котором кто-либо иной, чем суверен, имел бы власть выдавать награды больше, чем жизнь, или налагать наказания более жестокие, чем смерть. И вот, ввиду того что вечная жизнь есть бóльшая награда, чем земная жизнь, а вечное мучение бóльшее наказание, чем смерть естества, то всем людям, желающим повиновением власти избегнуть бедствий смуты и гражданской войны, стóит хорошенько подумать над тем, что подразумевается в Священном Писании под вечной жизнью и вечным мучением и за какие преступления и против кого совершенные люди должны быть осуждены на вечные муки и за какие деяния они должны получить вечную жизнь.
И прежде всего мы находим, что Адам был сотворен в таком состоянии жизни, что, если бы он не нарушил приказания Бога, он наслаждался бы вечно этим состоянием в раю Эдема. Ибо здесь было древо жизни, от которого ему разрешалось есть до тех пор, пока он не вкусит от древа познания добра и зла, от которого ему не разрешалось есть. Поэтому, как только он вкусил от последнего, Бог изгнал его из рая, дабы он не простер руки своей и не взял также от древа жизни и не стал жить вечно (Бытие, 3, 22). На основании этого мне кажется (подчиняясь, впрочем, в этом и во всех других вопросах, решение которых зависит от Писания, толкованию Библии, авторизованному государством, подданным которого я являюсь), что если Адам не согрешил бы, он пользовался бы вечной жизнью на земле и что смерть пришла для него и его потомства сего первым грехом. Не актуальная смерть пришла тогда, ибо тогда Адам никогда не мог бы иметь детей, между тем как он жил долго после и видел многочисленное потомство, прежде чем он умер. И если сказано (Бытие, 2, 71): в тот день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, то под этим необходимо подразумевается его смертность и достоверность смерти. Зная поэтому, что вечная жизнь была утеряна Адамом благодаря совершению им греха, тот, кто вычеркнул бы этот грех, должен был бы снова обресть ее. Но вот Иисус Христос искупил грех всех тех, которые уверовали в Него, и поэтому обрел для всех верующих ту вечную жизнь, которая была потеряна благодаря греху Адама. И это именно смысл того сравнения, которое делает апостол Павел (Послание к Римлянам, 5, 18): как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни, что снова более ясно выражено в следующих словах (Первое послание к Коринфянам, 15, 21, 22): ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут.
Что касается места, в котором люди должны наслаждаться той вечной жизнью, которую Христос обрел для них, то только что приведенные тексты, по-видимому, считают таковым землю. Ибо если во Христе все оживут так, как в Адаме все умирают, то есть лишаются рая и вечной жизни на земле, то все люди должны ожить на земле, ибо иначе сравнение не было бы точным. С этим, по-видимому, согласуются слова псалмопевца (Псалтирь, 132, 3): над Сионом заповедал Господь благословение и жизнь навеки, ибо Сион находится в Иерусалиме, на земле. С этим согласуются также слова апостола Иоанна (Откровение, 2, 7): побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Это было именно древо вечной жизни Адама, но его жизнь должна была быть на земле. Это, по-видимому, снова подтверждается апостолом Иоанном там, где он говорит (Откровение, 21, 20): Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И снова в этом же смысле в десятом стихе. Смысл тот, как если бы он сказал: при втором пришествии Христа новый Иерусалим, рай Господень, сойдет к народу Бога с неба, а не народ вознесется к нему с земли. И это совпадает с тем, что сказали два мужа в белой одежде, то есть два ангела, апостолам, видевшим вознесение Христа (Деяния апостолов, 1, 2): сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет так им же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Это звучит так, как если они сказали бы, что Христос сойдет на землю, чтобы управлять ими здесь вовеки именем Отца, а не вознесет их, чтобы управлять ими на небесах; и это соответствует восстановлению царства Божия, установленного при Моисее, каковое царство было политическим царством евреев на земле. В соответствии с этим и слова нашего Спасителя (Евангелие от Матвея, 22, 30): в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах, суть описание вечной жизни, похожей на ту, которую мы потеряли в Адаме. Ибо ввиду того, что, если бы Адам и Ева не согрешили, они жили бы вечно на земле в своей индивидуальной личности, то очевидно, что они не могли бы вечно производить потомство. Ибо если бы бессмертные производили детей так, как это люди теперь производят, то земля в короткое время показалась бы неспособной вместить их всех. Те евреи, которые задали нашему Спасителю вопрос, чьей женой будет в воскресении женщина, вышедшая замуж последовательно за нескольких братьев, не знали, каковы должны быть последствия вечной жизни, и поэтому наш Спаситель указал им на эти последствия бессмертия, а именно что в этом состоянии не будет производства потомства, а следовательно, и не будет женитьбы, точно так же как нет производства потомства и женитьбы среди ангелов. Аналогия между той вечной жизнью, которую потерял Адам, и той, которую обрел наш Спаситель своей победой над смертью, выдержана также и в том отношении, что подобно тому, как Адам, потеряв вечную жизнь, все же жил еще некоторое время после этого, точно так же и верующий христианин обрел вечную жизнь благодаря страданию Христа, хотя Он умирает естественной смертью и остается мертвым некоторое время, именно до воскресения. Ибо как приход смертности считается с момента осуждения Адама, а не с момента его действительной смерти, точно так и начало вечной жизни считается с момента отпущения грехов, а не с момента воскресения избранных Христа.
Что небеса (понимая под небесами те части Вселенной, которые наиболее удалены от Земли, как, например, там, где находятся звезды, или над звездами, на более высоком небе, называемом coelum empyreum, о котором в Писании нигде не упоминается и для предположения которого нет основания в разуме) являются тем местом, где люди должны жить после воскресения, нелегко вывести из какого-нибудь из тех текстов, которые я мог найти. Под царством небесным подразумевается царство царя, обитающего на небе, а его царством был народ израильский, которым он управлял при посредстве его наместников – пророков, каковыми были сначала Моисей, а после него Елеазар и первосвященники, до тех пор пока в дни Самуила они восстали и захотели иметь своим царем смертного человека, как у прочих народов. А когда наш Спаситель, Христос, при помощи проповедей Его служителей склонит евреев к обращению и язычников к повиновению Ему, тогда наступит новое царство небесное, так как нашим царем будет тогда Бог, для которого небо служит троном. И ниоткуда из Писания не видно необходимости, чтобы человек вознесся к своему блаженству выше «подножия» Бога – земли. Наоборот, мы читаем в Писании (Евангелие от Иоанна, 3, 13): никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах. Замечу здесь мимоходом, что эти слова в отличие от непосредственно предшествующих не являются словами нашего Спасителя, а словами самого евангелиста Иоанна, ибо Христос был тогда еще не на небе, а на земле. То же самое сказано о Давиде (Деяния апостолов, 2, 34) там, где апостол Петр, доказывая вознесение Христа и цитируя слова псалмопевца: ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление, говорит, что это сказано не о Давиде, а о Христе, и, чтобы доказать это, апостол Петр приводит следующий довод: ибо Давид не взошел на небеса. Однако тут кто-нибудь может возразить и сказать, что хотя тела праведников не должны были быть вознесены до дня Страшного суда, но их души были в небесах, как только они покидали их тела. И это как будто подтверждается словами нашего Спасителя, который, доказывая на основании слов Моисея догмат воскресения, говорит следующее (Евангелие от Луки, 20, 37, 38): что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живые. Однако если бы эти слова надо было понимать лишь в смысле бессмертия души, тогда они вовсе не доказывали бы того, что наш Спаситель намеревался доказать, а именно телесное воскресение, то есть бессмертие человека. Поэтому наш Спаситель думает, что эти патриархи были бессмертны не в силу особенности, вытекающей из сущности и природы человеческого рода, а по воле Бога, которому угодно было по одной своей милости пожаловать «вечную жизнь» праведникам. И хотя в то время патриархи и многие другие праведники были мертвецами, однако, как сказано в тексте, они были живы у Бога, то есть они были вписаны в книгу жизни вместе с теми, которым были отпущены грехи и которые были предназначены к вечной жизни при воскресении. Что человеческая душа бессмертна по своей собственной природе и является живым существом, независимым от тела, или что какой-нибудь человек, за исключением Еноха и Ильи, бессмертен, иначе чем при воскресении в день Страшного суда, есть учение, не доказуемое на основании Писания. Вся четырнадцатая глава книги Иова, содержащая речь не его друзей, а его самого, есть жалоба на эту смертность человеческой природы, и однако же она не противоречит догмату бессмертия после воскресения.
Для дерева есть надежда, говорит он, если оно будет срублено. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли. И о, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается; отошел и где он? и (с т. 12): человек ляжет и не встанет до скончания неба. Но когда же настанет это скончание неба? Апостол Петр говорит нам, что это будет при всеобщем воскресении. Ибо в своем Втором послании, гл. 3, с т. 7, он говорит: а нынешние небеса и земли сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков и (с т. 12) ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
Вот почему, когда Иов говорит: человек не встанет до окончания неба, то все равно как если бы он сказал, что бессмертная жизнь (а жизнь и душа означают обыкновенно в Писании одно и то же) не начинается в человеке до воскресения и дня суда и имеет своей причиной не специфическую природу человека и его рождение, а обетование. Ибо апостол Петр не говорит: мы ожидаем нового неба и новой земли по природе, а по обетованию.
Наконец, ввиду того что в тридцать пятой главе этой книги было уже указано на основании различных ясных мест Писания, что Царство Божье есть гражданское государство, в котором сам Бог является сувереном в силу прежде всего Ветхого, а затем и Нового Завета и в котором Он царствует при посредстве своего заместителя, или наместника, то эти же самые места поэтому доказывают, что, когда наш Спаситель снова придет во всем Его величии и во всей Его славе, чтобы царствовать фактически и вовеки, Царство Божье должно быть на земле. Однако так как это учение, хотя и доказанное немалочисленными и ясными по смыслу местами Писания, покажется большинству людей новшеством, то я лишь предлагаю его, но не настаиваю на том или другом мнении в области религии, поскольку это мнение расходится с общепринятыми на этот счет взглядами, выжидая исхода еще не решенного между моими соотечественниками спора мечом о власти. От этой власти будет зависеть, какие учения должны быть приняты и какие отвергнуты, а ее постановлениям, как устным, так и письменным, должны повиноваться все люди, желающие получить защиту ее законов, каковы бы ни были мнения частных людей. Ибо пункты учения, касающиеся Царства Божия, имеют такое огромное влияние на царство людей, что они должны быть установлены лишь тем, кто под владычеством Бога имеет верховную власть.
Как Царство Божие и вечная жизнь, так и враги Бога и их мучения, насколько видно из Писания, должны иметь свое место на земле. Имя того места, где все люди, похороненные или поглощенные землей, остаются до воскресения, обозначается обыкновенно в Писании словами, означающими под землей, что по-латыни обыкновенно переводится словом infernus и inferi, а по-гречески словом αδης, то есть место, где люди не могут видеть, причем под этим понимается как гроб, так и более глубокое место. Что же касается места, где будут пребывать осужденные после воскресения, то оно ни в Ветхом, ни в Новом Завете не обозначается в отношении его пространственного расположения, а лишь в отношении того общества, которое его населяет, а именно что это будет то место, где пребывали такие порочные люди, которых Бог некогда необычайным и чудесным образом стер с лица земли, так что они пребывают в преисподней или в бездонной пропасти, ибо Корея, Дафана и Авирона земля поглотила живыми. Это не значит, что авторы Писания хотели бы нас уверить, будто на земном шаре, не только конечном, но и незначительном по величине по сравнению с расстоянием до звезд, может быть бездонная пропасть, то есть отверстие бесконечной глубины, такое, которое греки в своей демонологии (то есть в своем учении о демонах), а после них римляне называли тартанами и о котором Виргилий (Энеида VI, 578, 579) говорит: Bis patet in praeceps, tantum tenditque sub umbras, quantus ad aethereum coeli suspectus Olympum1.
1 Дважды глубже и шире простирается под царство теней пропасть, чем расстояние от земли до неба.
В этом авторы Писания не могут желать нас уверить, ибо это не соответствует пропорции между землей и небом. Авторы Писания желают лишь, чтобы мы верили, что осужденные после воскресения будут неопределенно там, где находятся те люди, которых Бог подверг примерному наказанию.
Дальше, так как сильные люди земли, жившие во времена Ноя до потопа (греки называли их героями, а Писание называет исполинами, и о тех и других говорится, что они были рождены от смешения сынов Божиих с детьми людей), были истреблены во Всемирном потопе, то местом осужденных иногда поэтому указывается общество этих вымерших исполинов (см. притчи Соломоновы 21, 16, а также книга Иова, 26, 5). Тут место осужденных указано под сводами. Дальше, Исаия, 14, 9.
И здесь опять-таки, если понимать приведенные слова буквально, место осужденных указывается под водой. В-третьих, так как города Содом и Гоморра были истреблены Богом в его необычайном гневе за их грехи огнем и серой и вместе с ними вся их окрестность была превращена в вонючее и смолистое озеро, то место осужденных иногда обозначается огнем и огненным озером. Так, в Апокалипсисе сказано (21, 8): но трусливые, неверующие и гнусные, и убийцы, и содержатели непотребных домов, и колдуны, и идолопоклонники, и все лжецы будут обитать в озере, которое пылает огнем и серой и которое есть вторая смерть. Таким образом, очевидно, что огонь ада, выраженный здесь метафорой от реального огня Содома, обозначает не какой-нибудь определенный вид или какое-нибудь определенное место мучений, а означает неопределенно истребление, как в Откровении Иоанна (20, 14), где сказано: и смерть и ад повержены в озеро огненное, то есть уничтожены и истреблены, как если бы он сказал, что после дня Страшного суда не будет больше умирания, ни ввержения в ад, то есть ввержения в αδης (от которого, вероятно, произведено наше слово ад), что то же самое, что сказать: не будет больше смерти.
В-четвертых, от казни тьмы, которую Бог навел на египтян и о которой сказано (Исход, 10, 23): не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов израилевых был свет в жилищах их, место нечестивых после Страшного суда названо крайней тьмой, или, как сказано в подлиннике, тьмой вне. И так это сказано там (Евангелие от Матвея, 22, 13), где царь приказывает слугам своим связать руки и ноги человеку, одетому не в брачные одежды, а бросить его είς τό σχότος τό έξώτερον – во внешнюю тьму, или тьму вне. И хотя эта фраза переведена: крайняя тьма, однако она не означает, как велика эта тьма, а лишь, где она должна быть, а именно вне обиталища избранников Бога.
Наконец, так как вблизи Иерусалима было место, названное долиной сыновей Еннома, в части которой, названной Тофетом, евреи предавались самому мерзкому идолопоклонству, принося в жертву своих детей идолу Молоха, и где Бог подверг своих врагов самым страшным наказаниям, а царь Иосия, как это подробно рассказано во Второй книге царей, гл. 23, сжег жрецов Молоха на их собственных алтарях, то это место впоследствии служило свалочным местом, куда свозились из города сор и нечистоты и где время от времени раскладывался огонь, чтобы прочистить воздух и прогнать запах тления. По имени этого гнусного места евреи впоследствии имели обыкновение называть всегда место, где пребывают осужденные, геенной, или долиной Еннома. И эта геенна есть именно то слово, которое теперь обыкновенно переводится словом ад, и от огней, которые время от времени там горели, произошло наше представление о вечном и неугасимом огне ада.
Принимая во внимание, что никто не интерпретирует Писания в том смысле, что после дня Страшного суда все нечестивцы должны быть подвергнуты вечной казни в долине Еннома, или что они так воскреснут, чтобы потом быть вечно под землей или под водой, или что они после воскресения не будут видеть друг друга и не смогут передвигаться с места на место, то отсюда, как мне кажется, необходимо следует, что то, что здесь сказано насчет геенны огненной, сказано метафорически и что поэтому следует доискиваться собственного смысла таких понятий, как место ада и адские мучения и мучители (ибо всякая метафора имеет реальное основание, которое может быть выражено простыми словами).
И прежде всего что касается мучителей, то их природа и особенности точно и соответственно охарактеризованы наименованием: враг, сатана, обвинитель, или дьявол, разрушитель, или ангел тьмы. Эти знаменательные имена: сатана, дьявол, ангел тьмы – не суть наименования индивидуальных лиц, каковыми бывают собственные имена, а лишь наименования должности или качества и, следовательно, являются именами нарицательными. Вот почему их не следует оставлять без перевода, как они остаются по-латыни и в современных Библиях, ибо таким образом они кажутся собственными именами демонов, и люди вводятся в соблазн поверить учению о демонах, которое в то время было религией язычников и противоположно учению Моисея и Христа.
А так как под словами враг, обвинитель и разрушитель подразумевается враг тех, которые будут в Царстве Божьем, поэтому если Царство Божье после воскресения должно быть на земле (а мы в предыдущей главе показали, что это по Библии действительно так), то враг и его царство должны быть также на земле. Ибо так было во время оно, до того как евреи низложили Бога. В самом деле, Царство Бога было в Палестине, а народы вокруг были царствами врага. Вот почему под врагом подразумевается земной враг церкви.
Муки ада характеризуются иногда как плач и скрежет зубов (Евангелие от Матвея, 8, 12), иногда же как червь совести (Исаия, 16, 24 и Евангелие от Марка, 9, 44, 46, 48), иногда как огонь, как в приведенной нами цитате: где червь не умирает и огонь, не угасает и во многих других местах, иногда как поругание и посрамление, как сказано в Книге Даниила, 12, 2: и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Все эти цитаты метафорически изображают горечь и досаду нечестивцев от лицезрения вечного блаженства других, которое они потеряли благодаря своему неверию и непослушанию. А так как такое чужое блаженство познается лишь сравнением со своими собственными настоящими бедствиями, то отсюда следует, что нечестивцы должны претерпеть такие физические страдания и бедствия, которые бывают уделом людей, не только живущих под властью злых и жестоких правителей, но имеющих также своим врагом вечного царя праведников, всемогущего Бога. И среди этих физических страданий следует считать также вторую смерть каждого из этих нечестивцев, ибо хотя Писание ясно говорит о всеобщем воскресении, однако мы не читаем там, чтобы кому-нибудь из отвергнутых была обещана вечная жизнь, ибо, когда апостол Павел (Первое послание к Кор., 15, 42, 43) по вопросу о том, в каком теле воскреснут мертвые, говорит так: сеется во тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе, то слава и сила не могут быть применимы к телам нечестивых, точно так же нельзя говорить о второй смерти по отношению к тем, которые могут умереть лишь один раз, и хотя в метафорическом смысле можно назвать вечную бедственную жизнь вечной смертью, однако нельзя ее подразумевать под второй смертью.
Огонь, уготованный для нечестивцев, будет вечным огнем. Это значит, что состояние, в котором никто не может пребывать без физических и душевных мучений, будет после воскресения продолжаться для нечестивцев вечно, и в этом смысле огонь будет неугасим и мучения вечны. Однако отсюда нельзя вывести заключения, что брошенный в этот огонь и мучимый этими мучениями будет выносить и противостоять им так, чтобы вечно гореть и мучиться и, однако, никогда не погибнуть и не умереть. И хотя многие места говорят о вечном огне и вечных мучениях, в которые могут быть ввергнуты люди один за другим все время до скончания мира, однако я не нахожу ни одного места, которое говорило бы, что в этом состоянии будет вечная жизнь для какого-нибудь индивидуального лица, а, наоборот, многие места говорят о вечной смерти, которая есть вторая смерть. В Откровении Иоанна Богослова (20, 13, 14) мы читаем: и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Из этой цитаты ясно видно, что должна быть вторая смерть для каждого осужденного в день суда, после чего он уже больше не будет умирать.
Радости вечной жизни обозначаются в Писании словами «спасение» или «быть спасенным». Быть спасенным – значит быть или относительно обеспеченным против особых бедствий, или абсолютно против всех бедствий, как нужда, болезнь и самая смерть. И так как человек был создан в состоянии бессмертия и нетленности и, следовательно, свободным от всего того, что ведет к разрушению его естества, и потерял это блаженство благодаря грехопадению Адама, то отсюда следует, что быть спасенным от греха – значит быть спасенным от всех бед и несчастий, которые это грехопадение навлекло на нас. И поэтому отпущение грехов и спасение от смерти и несчастий означают в Священном Писании одно и то же, как это явствует из слов нашего Спасителя, который, излечив разбитого параличом словами: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои – и зная, что книжники считают богохульством, что человек берет на себя прощать грехи, спросил их, что легче сказать: «прощаются тебе грехи твои» или сказать: «встань и ходи», желая этим сказать, что для спасения расслабленного было все равно, сказать ли «прощаются тебе грехи твои» или сказать «встань и ходи», и что Он употребил первую форму речи с единственной целью, чтобы показать, что Он имеет власть прощать грехи. Да и по разуму, кроме того, очевидно, что так как смерть и несчастия были наказаниями за грехи, то освобождение от греха должно быть также освобождением от смерти и несчастий, то есть абсолютным спасением, которым верующие будут наслаждаться после дня суда благодаря власти и милости Иисуса Христа, который по этой причине и именуется нашим Спасителем. Что касается частичных спасений, таких, которые подразумеваются в 1-й Книге Самуила, 14, 19, во 2-й Книге Самуила, 22, 3, а также во 2-й Книге Царей 13, 51 и в подобных местах, то нет необходимости для меня говорить о них, так как тут нет никаких трудностей, да никто и не заинтересован в превратном толковании таких текстов.
1 Гоббсом приводятся эти места.
Однако в отношении общего спасения, так как оно должно быть в Царстве небесном, имеются большие трудности при определении его места. С одной стороны, слово «царство», означающее государство, установленное людьми в целях их неизменной защиты против врагов и ограждения от нужды, как будто говорит за то, что это спасение должно было бы быть на земле. Ибо под спасением возвещается нам славное царствование нашего царя в результате победы, а не спасение бегством. Поэтому там, где мы ждем спасения, мы должны ждать также триумфа, а до триумфа – победы, а до победы – сражения, о котором нельзя предполагать, что оно произойдет на небе. Однако, как ни основателен этот довод, я не буду считать его решающим, если нельзя будет привести в пользу моего положения ясных мест из Писания. Состояние спасения описано подробно в Книге пророка Исаии, 33, 20, 21, 22, 23, 242.
2 Гоббсом приводятся эти цитаты.
Из указанного места видно, что спасение будет на земле тогда, когда Бог при втором пришествии Христа будет царствовать в Иерусалиме; и из Иерусалима будет исходить спасение язычников, которые будут приняты в Царство Божье, как это также возвещено тем же пророком в более ясных выражениях (в гл. 66, 20, 21)3.
3 Цитаты приводятся Гоббсом в тексте.
Это подтверждается также нашим Спасителем в Его разговоре с самарянской женщиной относительно поклонения Богу, где Он говорит ей (Евангелие от Иоанна, 4, 22), что самаряне не знают, чему кланяются, а евреи знают, чему кланяются, ибо спасение от евреев (ex judaeis, то есть начинается у евреев), желая этим сказать: вы поклоняетесь Богу, не зная, через кого Он спасет вас, мы же поклоняемся, зная, что Спасителем будет один из колена Иуды – еврей, а не самарянин. Вот почему и женщина также отвечает ему в тон: мы знаем, что Мессия придет. Таким образом то, что наш Спаситель сказал: спасение от евреев, совпадает со словами апостола Павла (Послание к Римлянам, 1, 16, 19). В этом же смысле см. Книгу пророка Иоиля (гл. 2, 30, 31, 32).
И то же самое говорит пророк Авдий (ст. 14)4.
4 Цитаты приводятся Гоббсом в тексте.
Все эти цитаты говорят за то, что спасение и Царство Божие должны быть после дня суда на земле. С другой стороны, я не нашел ни одного текста, который хоть с некоторой вероятностью успеха мог бы быть использован для доказательства того, что праведники будут вознесены на небо, то есть в какое-нибудь сое lum empyreum или в какую-нибудь другую небесную область, за исключением разве того, что царство бояше называется царством небесным, каковое имя однако оно может иметь потому, что Бог, царь евреев, управлял последними путем своих постановлений, посылаемых Моисею чрез ангелов с неба, а после их бунта послал своего Сына с неба, чтобы привести их в покорность, и пошлет Его снова оттуда, чтобы управлять как ими, так и всеми другими праведными людьми, начиная со дня суда вовеки. Или же указанное название дано потому, что трон нашего Великого Царя находится на небе, между тем как земля служит Ему подножием. По чтобы подданные Бога имели место на уровне Его трона или выше Его подножия, представляется несовместимым с достоинством царя, и я не могу найти никакого подтверждения этому в Священном Писании.
Из того, что сказано о Царстве Божьем и о спасении, нетрудно заключить о том, что понимается под будущим миром. В Писании упоминаются три мира: старый мир, настоящий мир и будущий мир. О первом апостол Петр говорит следующее (Второе послание Петра 2, 5): если Бог не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых и т. д. Первый мир, таким образом, считается от Адама до Всемирного потопа. О настоящем мире наш Спаситель говорил (Евангелие от Иоанна, 18, 36): царство Мое не от мира сего. Ибо Он пришел на землю лишь затем, чтобы учить людей путям спасения и обновить своим учением царство Своего Отца. О будущем мире апостол Петр говорит (Второе послание Петра, 3, 13): впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Это тот мир, в котором Христос, сошедши с неба в облаках, в силе и славе пошлет своих ангелов и соберет со всех концов света и с самых отдаленных частей земли своих избранных и затем будет царствовать над ними вовеки под владычеством своего Отца.
Спасение грешника предполагает предварительное искупление, ибо тот, кто повинен в каком-нибудь грехе, подлежит за него штрафу, и он сам или кто-нибудь другой за него должны платить такой выкуп, какого потребует обиженное им лицо, имеющее его в своей власти. Ввиду того что обиженным лицом является Бог всемогущий, в чьей власти все существующее, то прежде нежели может быть обретено спасение, должен быть уплочен такой выкуп, какого Богу угодно потребовать. Этот выкуп не имеет своей целью дать удовлетворение за грех, равноценное причиненной обиде, ибо это не в силах когда-либо сделать ни сам грешник, ни какой-нибудь праведник за другого. Ущерб, нанесенный одним человеком другому, может быть исправлен восстановлением или возмещением убытков, но грех не может быть снят компенсацией, ибо это значило бы сделать свободу грешить продажной вещью. Но грехи могут быть отпущены кающемуся или даром, или по уплате штрафа, какой Богу угодно принять. То, что в Ветхом Завете Бог обыкновенно принимал, было некое жертвоприношение. Прощение греха не есть акт несправедливости, хотя наказание и было заранее установлено. Ведь даже среди людей обещающего обязывает лишь обещание блага, а не угрозы, то есть обещания зла, тем менее могут такие угрозы обязывать Бога, бесконечно более милосердного, чем люди.
Своим актом искупления наш Спаситель Христос поэтому не в том смысле дал удовлетворение Богу за грехи людей, что своей смертью или своей добродетелью Он сделал так, что со стороны Бога было бы актом несправедливости наказывать грешников вечной смертью, а лишь в том смысле, что Он своей смертью при своем первом пришествии принес ту жертву, которой Богу угодно было потребовать за спасение при втором Его пришествии тех, кто в промежуточный период раскается и поверит в Него. И хотя этот акт нашего искупления не всегда называется в Писании жертвоприношением, а иногда называется ценой, однако под ценой мы не должны понимать нечто в качестве эквивалента, за что Он имеет право требовать от своего оскорбленного Отца прощения для нас, а должны понимать лишь ту цену, которой Богу Отцу в Его милости угодно было потребовать.
Глава XXXIX
О том, что понимается в Писании под словом «церковь»
Слово церковь (ecclesia) обозначает в книгах Священного Писания разное. Иногда, хотя не часто, оно употребляется в смысле храма Божия, то есть храма, в котором христиане собирались для совершения публичного богослужения, как (Первое послание к коринфянам 14, 34): жены ваши и в церквах да молчат, но здесь это метафорически применено к происходившим там собраниям и с тех пор стало применяться к самым зданиям в целях различения между христианскими и языческими храмами. Храм Иерусалима был домом Господним и домом молитвы, и таким же образом всякое здание, посвященное служению Христу, называется домом Христа, и поэтому греческие Отцы Церкви называли такое здание χυριαχη – домом Господним, и отсюда перешло в наш язык название кирке и церковь.
Если же слово церковь берется не в смысле дома, тогда оно означает то же самое, что ecclesia означало в греческих государствах, а именно собрание граждан, созванное с целью выслушать речь магистрата, и что в римском государстве называлось concio, как тот, кто выступал с речью, назывался ecclesiastes и сoncionator. И если такое собрание созывалось законной властью, оно являлось ecclesia legitima – εννομος έχχληοία, законной церковь ю; если же такое собрание представляло собой шумное и мятежное сборище возбужденных людей, тогда оно являлось беспорядочной церковью – έχχλησία αυγχεχυμένη.
Иногда под этим словом подразумеваются люди, имеющие право быть членами таких собраний, хотя фактически не собранные, то есть подразумевается совокупность всех христиан, как бы они ни были рассеяны, как там, где сказано (Деяния, 8, 3), что Савл терзал церковь, и в этом смысле Христос назван главой церкви. Иногда же под словом «церковь» подразумевается лишь известная часть христиан, как, например, в словах (Послание к Кол., 4, 15): приветствуйте домашнюю церковь его; иногда также подразумеваются лишь избранные, например, в следующих словах (Послание к Еф., 6, 27): славная церковь, не имеющая пятна или порока, святая и непорочная, где подразумевается торжествующая церковь, будущая церковь. Иногда под указанным словом подразумевается собрание исповедующих христианство независимо от того, искренно ли они исповедуют его или лицемерно, как это следует понимать там, где говорится (Послание Матвея, 18, 17): скажи церкви, а если и церкви не послушает, тогда будет он тебе, как язычник или мытарь.
И только в этом последнем смысле можно говорить о церкви как о единой личности, то есть что она имеет способность желать, произносить, приказывать, заставлять повиноваться себе, составлять законы или совершать какое бы то ни было другое действие. Ибо все, что делается сборищем людей, не имеющих правомочий законного собрания, является частным актом каждого из участников сборища, поскольку он содействовал тому, что было совершено, а не актом всей толпы в совокупности как единого тела, а тем меньше это является актом тех, которые отсутствовали, или тех, которые хотя и присутствовали, но были против того, чтобы соответствующее действие совершилось. В соответствии с этим смыслом я определяю церковь как общество людей, исповедующих христианскую религию и объединенных в лице одного суверена, по приказанию которого они обязаны собраться и без разрешения которого они не должны собираться. И так как во всех государствах всякое собрание, не имеющее разрешения гражданского суверена, является незаконным, то точно так и церковь, собравшаяся в каком-либо государстве, запретившем ее собрание, является незаконным собранием. Отсюда следует, что нет на земле такой универсальной церкви, которой все христиане были бы обязаны повиноваться, так как нет такой власти на земле, по отношению к которой все другие государства были бы подданными. Христиане имеются во владениях разных монархов и государств, но каждый из этих христиан является подданным того государства, членом которого он состоит, и, следовательно, не может подчиняться приказаниям какого-либо другого лица. Поэтому церковь такая, которая способна приказывать, судить, оправдывать и осуждать или совершать какой-нибудь другой акт, есть то же самое, что гражданское государство, состоящее из людей, исповедующих христианство, и такое государство называется гражданским государством в силу того, что его подданные – люди, и церковью в силу того, что его подданные – христиане. Слова мирская и духовная власть являются лишь двумя словами, внесенными в мир с тем, чтобы у людей двоилось в глазах и чтобы люди не понимали, кто их законный суверен. Верно, конечно, что после воскресения тела праведников будут не только духовны, но и вечны, однако в этой жизни они грубы и подвержены тлению. Поэтому в этой жизни нет другой власти ни в государстве, ни в отношении религии, кроме мирской. И если верховный правитель как государства, так и религии запрещает пропагандировать какое-нибудь учение, то никто из подданных не может его законным образом пропагандировать. И должен быть один верховный правитель, иначе необходимо возникнут в государстве мятеж и гражданская война между церковью и государством, между приверженцами духовной власти и приверженцами мирской власти, между мечом правосудия и щитом веры, а что еще хуже, возникнет борьба в груди каждого христианина между христианином и человеком. Учители церкви называются, пастырями, точно так же называются и гражданские суверены. Но если пастыри не будут подчинены один другому так, чтобы мог быть один верховный пастырь, людей будут учить противоположным учениям, из которых оба могут быть, но одно должно быть ложным. Мы уже показали, кто должен быть этим верховным пастырем на основании естественного закона. В следующих главах мы увидим, кому эта должность была предназначена Писанием.
Глава XL
О правах Царства Божия при Аврааме, Моисее, первосвященниках и Царях иудейских
Отцом верных и первым в Царстве Божьем, основанном на Завете, был Авраам. Ибо с ним впервые был заключен Завет, которым он обязал себя и свое потомство после себя признавать и повиноваться повелениям Бога, не только таким, которые он мог бы познать светом естественного разума (как моральные законы), но и таким, которые Бог особым образом объявил бы ему через сны и видения. Ибо что касается моральных законов, то они уже были обязательны и не нуждались в том Завете, при котором была обетована земля Ханаанская. Точно так же не было никакого Завета, который мог бы прибавить что-нибудь или усилить то обязательство, в силу которого как Авраам и Его потомство, так и все прочие люди должны были повиноваться Богу всемогущему как законодателю естественных законов. Поэтому Заветом, заключенным им с Богом, Авраам обязался считать заповедью Бога то, что от имени Бога ему было приказано во сне или в видении, и передать это своему потомству, побудив Его соблюдать этот Завет.
В этом Завете Бога с Авраамом мы можем заметить три пункта, из которых вытекают важные следствия в отношении правительства народа Божия. Прежде всего при заключении указанного Завета Бог говорил только с Авраамом, и поэтому этот Завет мог распространяться на всех членов Его семьи и на Его потомство лишь потому, что еще до Завета воли последних (а воля есть сущность всякого договора) были включены в воле Авраама; и следовательно, предполагалось, что Авраам имеет законную власть заставить членов Своей семьи выполнить все то, к чему он обязал их Своим Заветом. В соответствии с этим Бог говорит (Бытие 18, 18, 19): в нем благословятся все народы земли, ибо я знаю, что он заповедает сынам Своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Отсюда можно вывести первое заключение, а именно, что те, с которыми Бог не говорил непосредственно, должны получить положительные постановления Бога от их суверена, подобно тому как семья и потомство Авраама получили их от их Отца, господина и гражданского суверена Авраама. И следовательно, те, которым Бог путем сверхъестественного откровения не приказывает противного, обязаны во всяком государстве повиноваться законам Своих суверенов в отношении Своих внешних действий и в отношении исповедания религии. Что же касается внутренней мысли и веры людей, которых человеческие правители не могут знать (ибо один Бог знает сердце человеческое), то они не произвольны и обусловлены не законами, а сокровенной волей и могуществом Бога и, следовательно, не подпадают под обязательство.
Отсюда вытекает второй вывод, а именно, что Авраам имел право наказывать того из Своих подданных, который, ссылаясь на частные сны и видения или другие откровения Бога, стал бы поддерживать учение, запрещенное Авраамом, или тех, которые присоединились бы к такому лжеучителю и следовали бы ему. Следовательно, точно так же позволительно в наше время суверену наказывать всякого человека, который противопоставил бы свое частное мнение законам, ибо суверен занимает такое же место в государстве, какое занимал Авраам в Своей семье.
Отсюда же вытекает и третий вывод, а именно, что, подобно тому как никто, кроме Авраама в Его семье, так и никто в христианском государстве, кроме суверена, не может знать, что есть и что не есть Слово Божье. Ибо Бог говорил только с Авраамом, и он один мог знать, что Бог говорил, и истолковать это Своей семье, и поэтому те, которые занимают место Авраама в государстве, являются единственными истолкователями того, что Бог говорил.
Этот же самый Завет был возобновлен с Исааком, а затем с Иаковом; но затем он не был более возобновлен до тех пор, пока сыны Израиля не были освобождены из Египта и не достигли подошвы горы Синая. И тогда Завет был возобновлен Моисеем (как я сказал раньше в гл. XXXV) таким образом, что сыны Израиля стали с тех пор особым Царством Бога, чьим наместником был для своего времени Моисей, а после него наследование этой должности перешло к Аарону и Его наследникам, чтобы быть для Бога священническим царством вовеки.
Этим установлением было приобретено Богу царство. Однако ввиду того что Моисей не был правомочен управлять сынами Израиля в качестве преемника в правах Авраама, ибо он не мог претендовать на это по праву наследства, то пока еще не видно, чтобы народ израильский обязан был считать Его наместником Бога не только в течение того времени, пока он верил, что Бог говорит с ним. И потому пока еще дело обстоит так, что Его власть зиждилась исключительно на том мнении, которое сыны Израиля имели о Его святости, о реальности Его общения с Богом и об истинности Его чудес, так что, если бы это мнение изменилось, они не были бы обязаны принимать за Закон Бога то, что Моисей предлагал им от имени Бога. Мы поэтому должны рассмотреть, какое другое основание имело их обязательство повиноваться ему. Ибо не повеление Бога могло обязать их, так как Бог не говорил с ними непосредственно, а через посредство самого Моисея, а наш Спаситель говорит о Себе (Евангелие от Иоанна 5, 31): если я свидетельствую Сам о Себе, то мое свидетельство не есть истинно. Тем меньше должно было быть приемлемо свидетельство Моисея о самом себе, особенно в притязании на царскую власть над народом Бога. Его власть поэтому, как и власть всех других монархов, должна была основываться на согласии народа и на Его обещании повиноваться ему. И так это в действительности и было, ибо, когда народ (Исход 20, 18, 19) увидел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, он отступил и стал вдали. И сказал Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать; но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Здесь было их обещание повиноваться, и этим обещанием они обязались повиноваться всему тому, что Моисей объявит им в качестве повеления Бога.
И хотя Завет установил священническое царство, т. е. царство, которое должен был наследовать Аарон, однако это следует понимать в смысле преемственности после смерти Моисея. Ибо всякий, кто в качестве первого основателя государства организует и устанавливает какую-нибудь систему государственного управления, будь то монархическая, аристократическая или демократическая, должен необходимо иметь верховную власть над народом все время, пока он этим делом занимается. А что Моисей имел эту власть в продолжение всей Своей жизни, явствует с очевидностью из Писания. Прежде всего об этом говорит вышеприведенный текст, так как народ обещал повиновение не Аарону, а ему. Во-вторых, это вытекает из следующего места (Исход 24, 1, 2): и сказал Господь Моисею: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят старейшин Израилевых. И Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Из чего ясно, что Моисей, который один был призван Богом, один представлял перед сынами Израиля личность Бога, т. е. был их единственным сувереном после Бога. И хотя после этого сказано (ст. 9, 10): взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых. И видел и Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и т. д., однако это было лишь после того, как Моисей уже раньше был с Богом и возвестил народу слова, сказанные ему Богом. Лишь он один ходил по делам народа; другим как знатным людям Его свиты для оказания им чести было позволено в качестве особой милости то, что не было позволено народу, а именно, как видно из следующего стиха, видеть Бога и остаться жить: Бог не простер руки Своей на них, они видел и Бога и ели и пили, т. е. они остались жить.
Однако они не принесли народу никакого повеления от Бога. Кроме того, везде говорится: Господь сказал Моисею, как во всех других случаях по вопросам государственного управления, точно так же и относительно установления религиозных церемоний, как это видно из глав от 255-й по 31-й Исхода из всей Книги Левита. С Аароном же Бог говорит непосредственно редко. Золотого тельца, сделанного Аароном, Моисей бросил в огонь. Наконец, вопрос о власти Аарона по случаю Его и Мариам бунта против Моисея был разрешен самим Богом в пользу Моисея. Точно так же в вопросе между Моисеем и народом относительно того, кто имеет право управлять народом, когда Корей, Дафан и Авирон и двести пятьдесят начальников общества собрались против Моисея и против Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы и среди них Господь! Почему же вы ставите себя выше народ а Господня, Бог разверзал уста земли, и она поглотила живыми Корея, Дафана и Авирона с их женами и детьми, и он огнем истребил те двести пятьдесят начальников. Таким образом, не Аарон, не народ, не какая-либо аристократия начальников народа, а лишь один Моисей имел непосредственно после Бога верховную власть над сынами Израиля, и это не только в вопросах гражданского управления, но также в вопросах религии, ибо один Моисей говорил с Богом, и поэтому лишь он один мог сказать народу, чего Бог от них требует. Ни один человек под страхом смерти не мог быть так самонадеян, чтобы приблизиться к той горе, где Бог говорил с Моисеем. Проведи для народа черту со всех сторон, говорит Господь (Исход 19, 12), и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошвеее, всякий, кто прикоснется к горе, будет предан смерти. И снова (ст. 21): сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его. Отсюда мы можем вывести заключение, что всякий, занимающий в христианском государстве место Моисея, является единственным вестником Бога и истолкователем Его повелений. И в соответствии с этим никто не должен в истолковании Писания идти дальше той черты, которая проведена Его сувереном. Ибо Писание, так как теперь Бог говорит через него, есть гора Синай, чертой вокруг которой являются законы тех, которые представляют Лицо Бога на земле. Позволительно читать Писание и видеть в нем изумительные дела Господа и научиться бояться его, но истолковывать его, т. е. допытываться, что Бог говорит тому, кого Он назначает править под Своим верховным владычеством, и сделать себя судьей того, правит ли он так, как Бог повелевает ему, или нет, значит перешагнуть черту, которую Бог обвел вокруг нас, и непочтительно глядеть на Бога.
Во времена Моисея не было никаких пророков, никого, кто бы мнил себя вдохновленным Богом, кроме тех, кого признавал и одобрял Моисей. Ибо в Его время были лишь семьдесят старейшин, о которых говорится, что они пророчествовали Духом Господним, и они все были избраны самим Моисеем сообразно тому как Бог сказал Моисею (Числа 11, 16): собери мне семьдесят старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины народа. Их-то Бог наделил Своим духом. Но этот Дух не разнился от духа Моисея. Ибо сказано (ст. 25): и сошел Господь в облаке и взял от духа, который был на Моисее, и дал семидесяти мужам-старейшинам. Однако я уже показал раньше (гл. XXXVI), что под Духом подразумевается разумение, так что смысл этого места тот, что Бог одарил их разумением, сообразным и подчиненным разумению Моисея, с тем чтобы они могли пророчествовать, т. е. говорить народу от имени Бога таким образом, чтобы они как служители Моисея и по Его полномочию содействовали распространению в народе учения, соответствующего учению Моисея. Ибо они были лишь служителями, и когда двое из них пророчествовали в стане, то это считалось новшеством и противозаконным поступком, и, как рассказывается в ст. 27 и 28 той же главы, против них было возбуждено обвинение в этом, а Иисус, не зная, что они пророчествовали Духом самого Моисея, советовал Моисею запретить им пророчествовать. Из чего очевидно, что ни один подданный не должен выступать в роли мнимого пророка или Богом вдохновенного человека против учения, установленного тем, кого Бог поставил на место Моисея.
Когда умер Аарон и вслед за ним Моисей, царство, являясь священническим царством, перешло в силу Завета к сыну Аарона, первосвященнику Елеазару. И Господь объявил Его ближайшим после себя сувереном, назначив одновременно Иисуса генералом армии. Ибо так говорил Бог в ясных словах относительно Иисуса (Числа 27, 21). И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать Его о решении перед Господом; и по Его слов у должны выходить и по Его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним. Следовательно, верховная власть объявления войны и заключения мира принадлежала первосвященнику. Высшая юрисдикция принадлежала также первосвященнику, ибо первосвященники были хранителями книги законов, а священники и Левиты, как это явствует из глав 17, 8, 9, 10 Второзакония, были подчиненными судьями в гражданских тяжбах. А в отношении вопросов религиозного культа никогда не было сомнения в том, что до воцарения Саула верховная власть в них принадлежала первосвященнику. Поэтому в одном и том же лице, именно в лице первосвященника, были объединены гражданская и церковная власть; и так она должна быть во всяком, кто правил на основании божественного права, т. е. на основании полномочий, полученных непосредственно от Бога.
Время, протекшее после смерти Иисуса до воцарения Саула, часто характеризуется в Книге Судей словами: в те дни не было царя у Израиля; а иногда к этому прибавляется: каждый делал то, что ему казалось справедливым. Из чего следует заключить, что, когда говорится: не было царя, подразумевается: не было верховной власти в Израиле. И так это и было, поскольку речь идет об осуществлении и проявлении в действии этой власти. Ибо после смерти Иисуса и Елеазара восстал другой род (Книга Судей 2, 10, 11), который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, а делал злое перед очами Господа и служил Ваалам. А евреи имели ту особенность, которую апостол Павел характеризует словами: ждать знамений, и это не только до того, как они подчинялись власти Моисея, но также и после того, как они обязались Своим подчинением. Знамения же и чудеса имели целью внушить веру, а не удерживать людей от нарушения данных ими обещаний, ибо к этому обязывает людей естественный закон. Но если мы будем говорить не об осуществлении власти, а о праве на власть, то в этом смысле верховная власть была еще в руках первосвященника. Вот почему повиновение, оказанное судьям, которые были специально избраны Богом, чтобы спасти Его мятежных подданных от рук их врага, не может быть приведено как доказательство против того, что первосвященник имел верховную власть во всех вопросах как государственного управления, так и религии. И ни судьи, ни сам Самуил не были обычными, а лишь чрезвычайными правителями, которым сыны Израилевы оказывали повиновение не по чувству долга, а из уважения к ним, обусловленного благоволением к ним Бога, сказавшимся в их мудрости, в их храбрости или счастье. Таким образом, и в эту эпоху право регулирования вопросов государственного управления было неотделимо от права регулирования вопросов религии.
После судей пришли цари, и, подобно тому как раньше вся власть как в области государственного управления, так и в области религии находилась в руках первосвященника, точно так она вся была теперь в руках царя. Ибо верховная власть над народом, которая раньше не только в силу всемогущества Бога, но также в силу специального Завета сынов Израилевых была у Бога и под Его непосредственным владычеством в руках первосвященника как Его вице-короля на земле, – эта власть Бога была теперь отменена с согласия самого Бога. В самом деле, когда сыны Израилевы сказали Самуилу (1-я Книга Самуила 8, 7): поставь над нам и царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов, – они этим обозначали, что они не желают более управляться постановлениями, которые предписал бы им первосвященник от имени Бога, а желают иметь правителя, который управлял бы ими таким же образом, как управляются все прочие народы, и следовательно, лишив первосвященника Его царской власти, они этим низвергли особенную власть Бога. И тем не менее Бог согласился на это, сказав Самуилу (Книга Самуила 6, 7): послушай голос народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, а отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними. Так как сыны Израилевы отвергли таким образом Бога, именем которого правили первосвященники, то у первосвященников осталось лишь столько власти, сколько угодно было царю предоставить им, причем это было больше или меньше в зависимости от того, царствовали ли благочестивые или порочные цари. А что касается гражданского управления, то оно очевидно всецело находилось в руках царя. Ибо в той же главе сказано: они будут, как все прочие народы; царь их будет судить их и ходить перед ними и вести их войны, т. е. он будет обладать всей полнотой власти как во время войны, так и в мирное время.
Эта полнота власти заключала в себе также право регулировать вопросы религии. Ибо в то время не было другого слова Божия для регулирования вопросов религии кроме закона Моисея, составлявшего гражданский закон евреев. Кроме того мы читаем (1-я Книга Царей 2, 27), что Соломон удалил Авиафара от священства Господня, из чего явствует, что Соломон имел власть над первосвященником, как над всяким другим подданным, что является существенным признаком верховенства в вопросах религии.. Мы читаем также, что он освятил храм, что он благословил народ и что он самолично сочинил ту превосходную молитву, которая читается при освящении всех церквей и всех молитвенных домов, что является вторым большим признаком верховенства в вопросах религии. Еще раз мы читаем, что*, когда возник вопрос относительно Книги Закона, найденной в храме, этот вопрос не был разрешен первосвященником, а Иосия послал Его и других, чтобы вопрошать относительно ее пророчицу Олдаму, что является опять-таки признаком верховенства в вопросах религии. Наконец мы читаем (1-я Книга Паралипоменон 26, 30), что Давид сделал Хашавию и братьев Его надзирателями над Израилем к западу по всяким делам служения Господня и по службе царской. Точно так же, что он поставил других хевронян правителями над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манасииным (это была часть Израиля, обитавшая по ту сторону Иордана) по всем делам Божиим и делам царя. Разве это не есть полнота власти как мирской, так и духовной, как это называют те, которые желают делить ее? На основании всего сказанного мы приходим к следующему заключению: с момента установления Царства Божия до плена верховенство в вопросах религии было в тех же руках, в которых находилась гражданская верховная власть, а после избрания Саула должность первосвященника была не повелительной, а служебной. Несмотря на то что власть в вопросах государственного управления и в вопросах религии, поскольку речь идет о праве, была объединена сначала в руках первосвященников, а затем в руках царей, все-таки из той же Священной истории видно, что народ этого не понимал. Напротив, так как большая часть, а может быть, наибольшая часть народа, доверяла славе Моисея или разговорам между Богом и первосвященниками лишь до тех пор, пока она видела великие чудеса, или, что равноценно чудесам, большие дарования, или большую удачу в начинаниях их правителей, то эта часть пользовалась случаем всякий раз, когда правители не угождали ей (возбуждая ее недовольство иногда Своей системой государственного управления, иногда Своим решением религиозных вопросов), чтобы по своему произволу менять правительство или отказать ему в повиновении. И благодаря этому возникали время от времени гражданские смуты, раздоры и народные бедствия. Например, после смерти Иисуса и Елеазара ближайшее поколение, которое не видело чудес, совершенных Богом, а было предоставлено своему собственному слабому разуму и которое также не считало себя связанным Заветом священнического царства, – это поколение не соблюдало постановлений первосвященника и закона Моисея, а каждый делал то, что ему казалось справедливым. В гражданских делах это поколение повиновалось таким людям, которых оно время от времени считало способными освободить Его от притеснявших соседних народов, и вопрошало не Бога о том, как ему следует поступить, а лишь таких мужчин или женщин, которых оно считало пророками, способными предсказать будущее; и хотя это поколение не имело идола в своем храме, однако, если имело Левита священником, оно уже считало, что служит Богу Израиля.
И впоследствии, когда израильтяне потребовали себе царя, как у прочих народов, то они это делали не с целью отказаться от служения Богу, их царю, а лишь разуверившись в справедливости сыновей Самуила; они хотели иметь царя, который судил бы их в гражданских делах, но они не позволили бы своему царю менять религию, которую считали возвещенной им Моисеем. Таким образом, ссылаясь то на недостатки в отправлении правосудия, то на недостатки в регулировании вопросов религии, они всегда держали в запасе предлог, чтобы выйти из повиновения каждый раз, когда надеялись, что это им удастся. Самуил был недоволен, когда народ требовал у него царя, ибо Бог был уже царем израильтян, а Самуил имел лишь власть по Его полномочию, однако когда Саул не последовал Его совету истребить Агага, как это приказал Господь, Самуил, чтобы лишить престола наследников Саула, помазал другого, а именно Давида, на царство. Ровоам не был идолопоклонником, однако, когда народ счел Его притеснителем, то этот политический мотив побудил десять колен отпасть от него и перейти к идолопоклоннику Иеровоаму. И вообще на протяжении всей истории царей иудейских и израильских имелись пророки, которые предостерегали царей против отступления от религии, а иногда также против политических ошибок. Так, например, пророк Ииуй попрекал Иосафата за помощь, оказанную им царю израильскому против сирийцев, а пророк Исаия – царя Езекию за то, что он показал сокровища свои посланным из Вавилонии. Из всего этого видно, что хотя политическая и религиозная власть была в руках царей, однако бесконтрольно пользоваться ею могли только те из них, которые были популярны вследствие Своих больших дарований или постоянно сопутствующего им счастья. Во всяком случае из практики того времени нельзя привести ни одного аргумента в пользу того, что верховная власть в вопросах религии не была в руках царей, разве только мы будем полагать, что она была в руках пророков, и из того факта, что Езекия на свою молитву Господу перед херувимами не получил ответа оттуда и тогда, а лишь после через пророка Исаию, мы будем заключать, что Исаия был поэтому высшей главой церкви, или из того факта, что Иосия вопрошал пророчицу Олдаму относительно Книги Закона, будем заключать, что ни сам Иосия, ни первосвященник, а лишь пророчица Олдама имела верховную власть в вопросах религии. Но так, я думаю, не полагает ни один ученый.
В эпоху плена евреи совершенно не имели государства, а после их возвращения из плена хотя Завет с Богом и был возобновлен, но со стороны народа не было дано обещания повиновения ни Ездре, ни кому-либо другому. И так как они вскоре после этого подпали под власть греков (и позаимствовали от них их обычаи, демонологию и учение каббалистов, так что их собственная еврейская религия была искажена), то в результате нельзя разобраться, кому принадлежала верховная власть, ни в отношении государственного управления, ни в вопросах религиозного культа. Вот почему мы можем, что касается Ветхого Завета, заключить, что всякое лицо, имевшее у евреев верховную власть в государстве, имело также верховную власть в вопросах религиозного культа и представляло лицо Бога, т. е. Бога Отца, хотя Бог не назывался отцом до того времени, пока он не послал в мир своего Сына Иисуса Христа, чтобы искупить грехи человеческого рода и ввести людей в свое вечное царство для их вечного спасения, Но об этом мы будем говорить в следующей главе.
Глава XLI
О миссии нашего святого Спасителя
Мы находим в Священном Писании троякого рода миссию Мессии. Во-первых, он – искупитель или Спаситель. во-вторых, он – пастырь, советник или учитель т. е. пророк, посланный Богом, чтобы обратить тех, кого Бог избрал для спасения, в-третьих, он – царь, вечный царь, но под владычеством своего Отца, подобно тому как в свое время были Моисей и первосвященники. Этим трем задачам соответствуют три разные эпохи. Ибо акт нашего искупления он совершал при своем первом пришествии, когда Он принес себя в жертву за наши грехи смертью на кресте. В направлении нашего обращения Он действовал отчасти в свое время самолично, а отчасти Он действует теперь через Своих служителей и будет продолжать действовать до своего второго пришествия. А после второго пришествия начнется Его славное царствование над Своими избранными, которое будет продолжаться вечно.
Свою миссию искупителя, т. е. того, кто платит выкуп за грех, каковым выкупом является смерть, – эту миссию Христос выполнил тем, что пожертвовал собой, и этим взял на себя наши беззакония и очистил нас от них так, как этого требовал бог. Это не значит, что по правилам строгого правосудия смерть одного человека, хотя бы и безгрешного, может дать удовлетворение за грехи всех людей. Это совершилось лишь по милосердию Бога, установившего такие искупительные жертвы за грехи, какие ему в Его милосердии угодно было принять. По старому закону (как это можно прочесть, Левит 16) Бог требовал, чтобы каждый год один раз была принесена очистительная жертва за грехи Израиля как священников, так и других. Для этого Аарон должен был приносить тельца в жертву за грехи – за себя и за священников. А за остальной народ он должен был взять от общества сынов Израилевых двух молодых козлов, из коих он должен был принести в жертву лишь одного. Что же касается второго, который был козлом отпущения, то Аарон должен был возложить обе руки на голову Его и, исповедав над ним все беззакония народа, возложить их на голову козла и отослать последнего с нарочным человеком в пустыню и пустить Его там, чтобы он унес на себе все беззакония народа. И подобно тому как принесение в жертву одного козла было достаточным, потому что приемлемым для Бога, выкупом за грехи сынов Израиля, точно так же и смерть Мессии является достаточной ценой за грехи человеческого рода, ибо больше этого Богом не требовалось. Здесь как будто изображаются страдания нашего Спасителя Христа, точно так же как в жертвоприношении Исаака и в других прообразах Христа в Ветхом Завете. Ибо он был одновременно и тем козлом, который приносился в жертву, и козлом отпущения: он истязуем был и страдал (Исаия 53, 7); он не открывал уст своих; как овца, веден был он на закланиеи, как агнец, перед стригущим Его безгласен, так он не отверзал уст своих. Тут он является козлом, принесенным в жертву. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни (ст. 4). И дальше (ст. 6): Господь возложил на него грех всех нас. Таким образом он здесь изображается козлом отпущения 1. Агнец Божий, значит, равноценен этим козлам: Он принес себя в жертву Своей смертью, и Он явился козлом отпущения в своем воскресении, будучи вознесен Своим Отцом и удален Своим вознесением от обители людей.
1 Для подкрепления Своей аналогии Гоббс цитирует дальше стихи 8 и 11 той же главы.
И так как искупитель не имеет права на то, что искупает до искупления и уплаты выкупа, и так как этим выкупом была смерть искупителя, то очевидно, что наш Спаситель как человек не был царем искупленных им, до того как Он потерпел смерть, т. е. в продолжение того времени, пока Он странствовал по земле во плоти. Я говорю: он не был тогда царем фактически в силу Завета, который верующие заключили с ним при крещении. Однако возобновлением своего Завета с Богом при обряде крещения верующие обязались повиноваться Христу как царю, царствующему под владычеством своего Отца, в любой момент, когда Ему угодно будет взять царство. В соответствии с чем сам Спаситель наш определенно говорит (Евангелие от Иоанна 18, 36): царство мое не от мира сего. Ввиду же того, что в Писании упоминаются лишь два мира – тот, который существует ныне и который останется до дня суда, называемого поэтому «последним днем», и тот, который настанет после дня суда, когда будут новое небо и новая земля, – то царство Христа должно наступить лишь после всеобщего воскресения. И об этом именно говори наш Спаситель (Евангелие от Матвея 16, 27): придет Сын человеческий во славе Отца своего с ангелами Своими; и тогда воздаст каждому по делам его. Воздать каждому по делам есть выполнение обязанностей царя, и это будет не раньше, чем он придет в славе Отца своего с ангелами Своими. Когда наш Спаситель говорит (Евангелие от Матвея 23, 2, 3): На моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И так, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, Он этим ясно объявляет, что он приписывает царскую власть для того времени не себе, а им. То же самое утверждает он там, где он говорит (Евангелие от Луки 12, 14): кто поставил Меня судить или делать вас? и (Евангелие от Иоанна 12, 47): Я пришел не судить мир, но спасти его. И однако же, наш Спаситель пришел в мир, с тем чтобы он мог быть царем и судьей в будущем мире, ибо он был Мессией, т. е. Христом, т. е. священником-помазанником Божьим и верховным пророком Бога, т. е. он был предназначен к тому, чтобы иметь всю ту власть, которой обладали пророк Моисей, Его преемники-первосвященники и преемники первосвященников – цари. И апостол Иоанн говорит определенно (гл. 5, 22): Отец не судит ни кого, но весь суд отдал Сыну. И это не противоречит другому месту: я не пришел судить мир, ибо последние слова относятся к настоящему миру, а предшествующие к будущему миру1.
1 В подтверждение этой мысли Гоббс цитирует дальше Евангелие от Матвея 19, 28.
Но если, будучи на земле, Христос не имел царства в этом мире, то какова же была цель Его первого пришествия? Этой целью было возвращение Богу путем Нового Завета царства, которое принадлежало Ему на основании Ветхого Завета и которого он лишился благодаря бунту израильтян при избрании Саула. С этой целью он должен был проповедовать им, что он является Мессией, т. е. царем, обещанным им пророками, и принести себя в жертву за грехи тех, которые Своей верой выразили бы свою покорность ему, и, если бы народ в целом отверг Его, призвать к покорности таких, которые поверили бы в Него среди язычников. Перед нашим Спасителем во время Его пребывания на земле были таким образом две задачи: первая – прокламировать себя Христом, а вторая – учением и творением чудес убедить и подготовить людей жить так, чтобы быть достойными того бессмертия, которое должно стать уделом верующих с того момента, когда он придет во славе своей, чтобы владеть царством Отца Своего. И вот почему Иисус сам часто называет время своего проповедования восстановлением. Однако это не было восстановлением царства в собственном смысле и призывом к отказу в повиновении существовавшим тогда властям (ибо он заповедал повиноваться тем, которые сидели на моисеевом седалище, и воздать кесарево кесареви), а лишь залогом долженствующего наступить Царства Божия для тех, которых Бог наделил благодатью быть Его последователями и верить в Него. Вот почему о праведниках говорится, что они уже находятся в царстве благодати как натурализованные в Царстве Небесном.
В этот период поэтому Христом ничего не было сделано или проповедуемо, что клонилось бы к умалению гражданской власти евреев или римского цезаря. Ибо что касается государства, существовавшего тогда среди евреев, то и власть имущие среди них и управляемые одинаково ждали Мессии и Царства Божия. А этого не могло бы быть, если законы этого государства запрещали бы этому Мессии открыться и провозгласить себя (при Его пришествии). А так как Христос делал только то, что проповедью и творением чудес стремился доказать, что он есть Мессия, то он этим ничего не делал против законов еврейского государства. Царство, на которое он претендовал, должно было быть в другом мире, а до наступления этого царства он учил всех людей повиноваться тем, которые сидели на моисеевом седалище, он разрешил им платить подати цезарю и отказался от роли судьи. Каким же образом могли Его слова или действия быть мятежническими и клониться к низвержению существовавшего тогда гражданского образа правления? Но Господь, предопределивший жертвоприношение Христа в целях приведения Своих избранных в обетованное ими раньше повиновение, использовал злобу и неблагодарность евреев в качестве средства для приведения в исполнение этого решения. Точно так же Христос не делал ничего противного законам Кесаря. Ибо хотя сам Пилат (чтобы угодить евреям) предал Его для распятия, однако, прежде чем он это сделал, открыто заявил, что не признает за ним никакой вины. И в качестве основания для осуждения он указал не то, что требовали евреи, а именно, что Христос выдавал себя за царя, а просто, что Он был и, несмотря на протест евреев, он отказался изменить это основание, говоря: то, что я написал, я написал.
Что же касается третьей части миссии Христа, а именно Его назначения быть царем, то я уже показал, что Его царство должно было наступить лишь после воскресения. Но тогда он будет царем не только как Бог, в каковом смысле он уже является царем и будет всегда над всей землей в силу своего всемогущества, но также специально царем Своих избранных в силу Завета, заключенного с ними при крещении. Вот почему наш Спаситель и говорит (Евангелие от Матвея 19, 28), что Его апостолы сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, когда сядет Сын человеческий на престоле славы Своей, чем он обозначил, что он будет тогда царствовать в Своей человеческой природе. Последнее явствует также из Евангелия от Матвея 16, 27, Евангелия от Марка 13, 16 и 14, 62, а более определенно из Евангелия от Луки 22, 29, 30, где Иисус говорит: я заедаю сам, мам зазрил. я завещаю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да ядите и пиете за трапезой моей, в царстве моем, и сядете на престолах – судить двенадцать колен Израилевых. Отсюда видно, что царство Христа, завещанное Ему Его отцом, наступит не раньше, чем Сын человеческий придет в славе Своей и сделает Своих апостолов судьями двенадцати колен Израилевых. Но кое-кто может тут спросить: ввиду того, что в Царстве Небесном не будет женитьбы, то разве люди будут тогда пить и есть, какого же рода ядение подразумевается в этом месте? Это объяснено нашим Спасителем там, где он говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. Так что под ядением за трапезой Христа подразумевается вкушение от древа жизни, т. е. наслаждение бессмертием в царстве сына человеческого. Из приведенных и многих других мест явствует, что царствование нашего Спасителя должно быть осуществлено им в Его человеческой природе.
Кроме того, он должен быть тогда подвластным царем или наместником Бога, своего Отца, каким был Моисей в пустыне и каковыми были первосвященники до воцарения Саула и цари после этого. Ибо одним из пророчеств в отношении Христа было, что он будет (в должности), как Моисей (Второзаконие 18, 18). Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уст а Его. И это сходство с Моисеем сказывалось также в действиях нашего Спасителя во время Его земного странствования. Ибо, подобно тому как Моисей выбрал двенадцать начальников колен, которые должны были управлять под Его властью, точно так же и наш Спаситель выбрал двенадцать апостолов, которые сядут на двенадцати тронах, чтобы судить двенадцать колен Израилевых. И как Моисей уполномочил семьдесят старейшин воспринять Дух Божий и пророчествовать народу, т. е. (как я раньше указал) говорить ему от имени Бога, так и наш Спаситель назначил семьдесят учеников, чтобы проповедовать всем народам Его царство и спасение. И подобно тому как Моисей, когда ему пожаловались на тех из семидесяти старейшин, которые пророчествовали в стане Израиля, оправдал их, так как они подчинялись Его власти, точно так и наш Спаситель, когда апостол Иоанн пожаловался ему на человека, именем Христа изгоняющего бесов, оправдал этого человека, сказав (Евангелие от Луки 9, 50): не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас.
Сходство с Моисеем сказывается у нашего Спасителя, кроме того, в установлении сакраментов, как сакрамента допущения в Царство Божье, так и сакрамента, долженствующего служить напоминанием об освобождении избранных Им от их бедственного состояния. Подобно тому как сыны Израиля имели до эпохи Моисея в качестве сакрамента, знаменовавшего их принятие в Царство Божие, обряд обрезания, каковой обряд был отменен в период их странствования в пустыне и восстановлен, как только они пришли в обетованную землю, точно так же имели евреи до пришествия Христа обряд крещения, т. е. обряд обмывания водой всех язычников, принимавших еврейство. Этот обряд св. Иоанн Креститель использовал при принятии всех тех, которые признали Христа, чей приход в мир он проповедовал; и наш Спаситель установил тот же самый обряд в качестве сакрамента, который должен был быть принят всеми теми, которые уверовали в него. Каким образом возник обряд крещения, в Писании не указано. Однако можно думать, что он, вероятно, возник как подражание закону Моисея относительно проказы. На основании этого закона прокаженный должен был быть на определенное время удален из стана, и по истечении этого времени прокаженный, если он объявлялся священником чистым, должен был быть допущен в стан после торжественного обряда омовения. И этот обряд мог поэтому послужить прообразом для обряда омовения при крещении, при котором люди, очистившиеся верой от проказы греха, принимались в церковь после торжественного обряда крещения. Имеется еще другое предположение, а именно, что этот обряд позаимствован из церемоний, практиковавшихся язычниками в одном редком случае. Дело в том, что если человек, которого считали мертвым, вдруг пробуждался к жизни, то другие люди боялись входить с ним в общение, как они боялись бы общаться с привидением, если мнимый покойник не был снова принят в общество людей через обряд омовения, подобно тому как дети омывались от нечистот их рождения, так что указанный обряд символизировал как бы вторичное рождение. Вполне вероятно, что эта церемония, существовавшая у греков в то время, когда Иудея была под властью Александра и Его греческих преемников, могла проникнуть в религию евреев. Однако так как невероятно, чтобы наш Спаситель поддерживал языческий обряд, то наиболее вероятным является предположение, что обряд крещения возник из легальной церемонии омовения после проказы. А что касается второго сакрамента, вкушения пасхального агнца, то Он, очевидно, имитировался в сакраменте Тайной вечери, в котором разламывание хлеба и разливание вина имело целью сохранить в памяти наше избавление страданиями Христа от бедствий греха, подобно тому как вкушение пасхального агнца имело целью сохранить в памяти евреев их избавление от египетского рабства. Так как власть Моисея была лишь подчиненной и он был лишь наместником Бога, то из этого следует, что и Христос, власть которого как человека должна была быть равна власти Моисея, был подвластен своему Отцу. Это яснее всего выражено в том, что он учил нас молиться: Отче наш, да приидет царство твоии: ибо Тебе принадлежит царство, власть и слава, и в том, что сказано, что он придет во славе Отца Своего, и в том, что говорит апостол Павел (Первое Послание к кор. 15, 24): а затем придет конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, и во многих других наиболее ясных местах.
Наш Спаситель поэтому как в Своей проповеди, так и в своем царствовании представляет (подобно Моисею) личность Бога. И лишь начиная с того времени, но не раньше, Бог называется отцом и, оставаясь одной и той же субстанцией, он является одним лицом, поскольку он представлен Моисеем, и другим лицом, поскольку он представлен Своим Сыном Христом. Ибо понятие лицо соотносительно к понятию представитель, и следовательно при наличии многих представителей имеется много лиц, хотя одной и той же субстанции.
Глава XLII
О церковной власти
Для понимания того, что такое церковная власть и кому она принадлежит, следует различать с момента вознесения нашего Спасителя два периода: один до обращения в христианство королей и лиц, облеченных верховной гражданской властью, и второй – после их обращения. Ибо много времени протекло с момента вознесения до того, как какой-либо король или гражданский суверен принял и разрешил публично проповедовать христианскую религию. А что касается промежуточного между ними времени церковная власть, очевидно, находилась тогда в руках апостолов, а после них в руках тех, кого апостолы назначили, чтобы проповедовать Евангелие и обращать людей в христианство и направлять обращенных по пути спасения; а после них церковная власть опять была передана другим, назначенным их предшественниками, причем это делалось путем возложения рук на тех, кто был назначен. Возложением рук обозначалось наделение Святым Духом или Божьим духом тех, кто был назначен в качестве служителей Бога, призванных ускорить Его царство. Возложение рук, таким образом, означало лишь удостоверение данного им поручения проповедовать Христа и распространять его учение. А наделение Святым Духом путем церемонии возложения рук было лишь подражанием тому, что сделал Моисей. Ибо Моисей употребил ту же церемонию по отношению к своему служителю Иисусу, как мы это читаем (Второзаконие, 34, 9): И Иисус, сын Навина, исполнился душ премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Наш Спаситель поэтому в промежутке между своим воскресением и вознесением дал свой дух апостолам, дунув на них и сказав (Евангелие от Иоанна, 20, 22): примите Духа Святого, а после своего восшествия, послав на них сильный ветер и разделяющиеся огненные языки, а не возложив руки на них, точно так же как и Бог не возложил Своих рук на Моисея. Апостолы же впоследствии передавали тот же Дух путем возложения рук по образу того; как это сделал Моисей по отношению к Иисусу, сыну Навина. Таким образом отсюда ясно, в чьих руках преемственно оставалась церковная власть в те первые времена, когда не было никакого христианского государства, именно в руках тех, кто принял эту власть из рук апостолов путем преемственного возложения рук.
Мы имеем здесь лицо Бога представленным в третий раз. Ибо подобно тому, как Моисей и первосвященники были представителями Бога в Ветхом Завете, а сам наш Спаситель – как человек в период Его земного странствования, точно так же представлял Его с тех пор Святой Дух, то есть апостолы и их преемники в проповедовании и распространении учения Христа, получившие Святой Дух. Но лицом является (как я показал раньше в гл. 13) тот, кого представляют, и так часто, как часто его представляют, и поэтому о Боге, который был трижды представлен (то есть олицетворяем), можно с полным основанием говорить, что Он в трех лицах, хотя ни названия лица, ни названия Троицы не приписывается Ему в Библии. Апостол Иоанн, правда, говорит (Первое послание 5, 7): три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и сии три суть едино. Но это не расходится, а вполне согласуется с тремя лицами согласно собственному смыслу слова лица, обозначающего того, кто представляется другим. И таким образом, Бог Отец, представляемый Моисеем, есть одно лицо, а представляемый Его Сыном есть другое лицо, а представляемый апостолами и Отцами Церкви, учившими на основании полномочий, полученных от апостолов, является третьим лицом, и тем не менее каждое лицо здесь является лицом одного и того же Бога. Но кто-нибудь спросит здесь: о чем свидетельствовали эти три? Апостол Иоанн поэтому говорит нам, что свидетельство это состояло в том, что Бог даровал нам жизнь вечную в Сыне Своем. Опять если бы кто-нибудь спросил: чем Бог засвидетельствовал это? То на это легко ответить. Ибо Бог удостоверил это чудесами, творимыми Им, сначала через Моисея, затем через Своего Сына и, наконец, через Своих апостолов, исполнившихся Святого Духа, ибо все они, каждый в свое время, представляли лицо Бога и или пророчествовали, или проповедовали Иисуса Христа. А что касается апостолов, то основная задача апостольства у двенадцати первых и великих апостолов заключалась в свидетельствовании о воскресении Христа, как это ясно видно из тех слов, которые употребляет апостол Петр, когда надо было выбрать нового апостола на место Иуды Искариота (Деяния, 1, 21, 22): надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывали обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, когда Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Эти слова объясняют, в чем заключается то свидетельство, о котором говорит апостол Иоанн. В том послании Иоанна упоминается другое тройное свидетельствование на земле. Ибо он говорит (ст. 8): три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь, то есть благодать Духа Божия, и два сакрамента, крещение и Тайная вечеря, которые свидетельствуют об одном, чтобы внушить верующим уверенность в вечной жизни. Об этом свидетельстве тот же апостол говорит (ст. 10): верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. В этой Троице на земле единство не заключается в самой вещи, ибо дух, вода и кровь не являются той же субстанцией, хотя они свидетельствуют об одном. Но в небесной Троице лица суть лица одного и того же Бога, хотя и представленного в три разных периода и в трех разных случаях. Резюмируем. Учение о Троице, поскольку его можно вывести непосредственно из Писания, сводится по существу к тому, что Бог, который всегда есть один и тот же, был лицом, представленным Моисеем, лицом, представленным Его Сыном во плоти, и лицом, представленным апостолами. Представленный апостолами Бог есть тот Святой Дух, которым они говорили, представленный своим Сыном (который был Богом и человеком) Бог есть Бог Сын, а представленный Моисеем и первосвященниками Бог есть Отец, то есть Отец нашего Господа Иисуса Христа. Из сказанного можно понять, почему имена: Отец, Сын и Святой Дух – никогда не употребляются в Ветхом Завете для обозначения божества. Дело в том, что эти имена являются именами лиц, имена которых обусловлены представительством, чего не могло быть до того, пока разные люди не представляли лицо Бога в управлении и руководстве под Его владычеством.
Таким образом, мы видим, что церковная власть была оставлена нашим Спасителем апостолам и что последние были наделены Святым Духом (в целях лучшего осуществления этой власти), который поэтому называется иногда в Новом Завете параклетом, что означает помощник, хотя обыкновенно переводится словом утешитель. Рассмотрим теперь, в чем заключается самая эта власть и над кем она осуществляется.
Кардинал Беллармин в своей третьей книге, посвященной общим спорным вопросам, затрагивает очень много вопросов, касающихся церковной власти римского папы, и начинает с обсуждения того, должна ли эта власть быть монархической, аристократической или демократической. Все эти роды власти суть власть верховная и принудительная. Если же теперь оказалось бы, что нашим Спасителем не оставлено апостолам и их преемникам никакой принудительной власти, а лишь власть прокламировать Царство Христа и убеждать людей подчиниться Ему и правилами и добрыми советами учить людей, признавших царство Христа, тому, что они должны делать, чтобы быть принятыми в Царство Божие, когда оно наступит; одним словом, если оказалось бы, что апостолы и другие служители Евангелия являются нашими учителями, а не нашими повелителями, а их правила являются не законами, а спасительными советами, тогда весь этот спор оказался бы беспредметным.
Я уже доказал (в последней главе), что Царство Христа не от мира сего. Поэтому никто из его служителей (если он не король) не может требовать повиновения Его именем. Ибо если верховный царь не имеет царской власти в этом мире, то по какому же праву могут требовать повиновения его чиновники? Я посылаю вас так, как послал Меня Отец (так говорит наш Спаситель). Но до дня суда наш Спаситель был послан не с тем, чтобы царствовать во всем своем величии, и не как наместник Его Отца, а лишь с тем, чтобы убедить евреев вернуться в Царство Его Отца и пригласить язычников принять это Царство.
Промежуточное время между восшествием Христа и всеобщим воскресением названо не царствованием, а возрождением, то есть приготовлением людей ко второму пришествию Христа во славе в день суда, как это явствует из слов нашего Спасителя1.
1 Гоббсом приводятся цитаты (Евангелие от Матфея, 19, 28 и Послание к Еф., 6, 15).
И дело апостолов сравнивается нашим Спасителем с рыболовством, то есть их дело заключается в том, чтобы побудить людей к повиновению не мерами принуждения и наказания, а мерами убеждения. И поэтому наш Спаситель не говорит Своим апостолам, что Он их сделает нимродами, охотниками людей, а Он говорит, что Он их сделает рыболовами людей. Он сравнивает их дело также с закваской, с сеянием семян и с умножением горчичных зерен. Все эти сравнения исключают всякое представление о принуждении; и, следовательно, для указанного времени не может быть речи о действительном царствовании. Дело служителей Христа есть благовествование, то есть прокламирование Христа и подготовление к Его второму пришествию, как благовествование Иоанна Крестителя было подготовлением к Его первому пришествию.
Кроме того, задачей служителей Христа в этом мире является побудить людей верить Христу и иметь веру в Него. Вера же не имеет отношения к принуждению и приказаниям и не зависит совершенно от них, а исключительно от достоверности или вероятности, основанных на аргументах, взятых от разума или выведенных из того, во что люди уже веруют. Вот почему служители Христа в этом мире на основании своего титула не имеют никакой власти наказывать людей за неверие или за то, что они противоречат их словам. Я говорю, что они не имеют права наказывать их на основании своего титула служителей Христа, но если служители обладают верховной гражданской властью на основании государственно-правового установления, тогда они действительно имеют право наказывать за всякое противодействие их законам. И апостол Павел определенно говорит о себе самом и о других тогдашних проповедниках Евангелия (Второе послание к Кор., 1, 24): мы не имеем никакой власти над верой вашей, но мы споспешествуем радости вашей.
Другим аргументом в пользу того, что служители Христа не имеют права приказывать в существующем ныне мире, может служить то обстоятельство, что Христос признал законной власть всех суверенов, как исповедующих христианскую религию, так и не исповедующих ее1. Увещевая быть покорными высшим властям, апостол Павел говорит (Послание к Римлянам, первые шесть стихов): существующие власти установлены Богом, и мы должны повиноваться им не только из страха наказания, но и по совести (см. также Первое послание апостола Петра, гл. 2, ст. 13, 14, 15). Все эти цари и власти, о которых говорят апостолы Петр и Павел, были неверными. Тем более обязаны мы повиноваться тем христианам, которых Бог установил суверенами над нами. Как же мы можем в таком случае быть обязанными повиноваться какому-нибудь служителю Христа, который приказал бы нам делать нечто, противоречащее повелению монарха или какого-нибудь другого верховного представителя государства, подданными которого мы состоим и от главы которого мы ждем защиты? Ясно поэтому, что Христос не предоставил Своим служителям в этом мире никакой власти приказывать другим людям, за исключением того случая, когда эти служители облечены также гражданской верховной властью.
1 Здесь Гоббс прежде всего цитирует слова апостола Павла в Послании к Кол., 3, 20, 22 об обязанности детей повиноваться во всем своим родителям и рабов – их господам, причем указывает на то, что этими господами были тогда преимущественно неверные.
Но как быть в том случае (может кто-нибудь возразить), если какой-нибудь царь или сенат или какой-нибудь другой суверен запретит нам верить в Христа? На это я отвечаю, что такое запрещение остается безрезультатным, ибо вера и безверие никогда не следуют человеческим приказаниям. Вера есть дар Божий, которого никто не может ни давать, ни отнять обещанием награды и угрозой пыток. А если дальше спросят: а как быть, если наш законный суверен прикажет нам сказать языком, что мы не верим в Христа, обязаны мы повиноваться этому приказанию или нет, то на этот возможный вопрос я отвечаю следующее: исповедание языком есть лишь внешнее действие и не имеет большего значения, чем всякий другой жест, которым мы выражаем свою покорность и в отношении которого христианин, непоколебимо верующий в Христа, имеет ту же свободу, которую пророк Елисей предоставил сириянину Нееману: Нееман признал в душе царя Израиля, ибо он говорит (2-я Книга Царей 5, 17): не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет Господин мой в дом Риммон а для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае сем. И это пророк одобрил и сказал ему: иди с миром. Тут Нееман уверовал в душе своей, но, поклоняясь идолу Риммону, он фактически отрицал истинного Бога, как если бы он отрекся от него устами. Но как быть тогда со словами нашего Спасителя: всякого, отринувшего Меня перед людьми, Я отрину перед Моим Отцом, который на небе? На это мы можем сказать, что все, что подданный, каким был Нееман, вынужден делать из повиновения своему суверену, и все, что он делает не по собственному побуждению, а повинуясь законам своей страны, всякое такое деяние является не деянием подданного, а его суверенов, и не подданный отрицает в этом случае Христа перед людьми, а его правитель и закон его страны. И если кто-нибудь бросит мне обвинение в том, что это мое учение противоречит истинному и неподдельному христианству, то я спрошу его, как должен был бы поступить, по его мнению, подданный христианского государства, исповедующий в душе магометанскую религию, в том случае, если его суверен приказал бы ему под угрозой смертной казни присутствовать при богослужении в христианской церкви? Думает ли мой воображаемый противник, что магометанство обязывает по совести этого подданного претерпеть скорее смерть, чем повиноваться приказанию его законного суверена? Если он скажет, что указанный подданный должен скорее претерпеть смерть, то он этим дает право всем частным лицам не повиноваться своим суверенам в тех случаях, когда приказания этих суверенов враждебно сталкиваются с интересами религий, истинных или ложных, этих частных лиц. Если же мой обвинитель скажет, что указанный подданный в приведенном случае обязан повиноваться, тогда он признает за собой право, которое он отрицает за другим, что противоречит словам нашего Спасителя: поступайте по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы они поступали по отношению к вам; и противоречит также естественному закону (который есть несомненный вечный закон Бога), гласящему: не делай другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе.
Но что мы тогда скажем о тех мартирах (мучениках), о которых мы читаем в истории церкви, неужели то, что они без всякой нужды пожертвовали своей жизнью? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны делать различие между лицами, которые были преданы смерти за их христианские верования. Из этих лиц некоторые были призваны открыто проповедовать и признавать Царство Христа, другие же не имели такого призвания, и от них требовалось не больше, чем их личная вера. Первая категория мучеников в тех случаях, когда они предавались смерти за то, что они свидетельствовали о том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, были истинными мартирами. Ибо мартир есть (чтобы дать правильное определение этого слова) свидетель воскресения Иисуса-Мессии1, каковыми свидетелями могли быть лишь те, которые общались с Ним на земле и видели Его воскресшим. Ибо свидетель должен был видеть то, о чем он свидетельствует, в противном случае его свидетельство несостоятельно. А что только такие могут быть названы свидетелями о Христе в собственном смысле этого слова – это явствует из слов апостола Петра (Деяния, 1, 21, 22): и так надобно, чтобы один из тех, который находился с нами во все время, когда пребывали обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. Из приведенной цитаты мы можем заключить, что свидетелем истинности воскресения Христа, то есть истинности основного догмата христианской религии, а именно, что Иисус есть Христос, может быть лишь ученик, обращавшийся с Христом и видевший Его до и после возрождения, следовательно, может быть лишь один из Его первоначальных учеников, между тем как те, которые не обладают этими данными, могут лишь свидетельствовать то, что говорили их предшественники, и являются поэтому лишь свидетелями свидетельства других людей и посему лишь мартирами второй степени, или мартирами свидетелей о Христе.
1 Для понимания здесь хода аргументации Гоббса следует иметь в виду, что основное значение греческого слова ό μάρτυς, р. μάρτυς есть свидетель, в каковом значении, а именно для обозначения учеников Христа, его применяли авторы Евангелия. Лишь впоследствии это слово стало применяться для обозначения и христианских мучеников.
Тот, кто наперекор закону или власти гражданского государства поддерживает учение, которое он или сам сконструировал на основании истории жизни нашего Спасителя или деяний и посланий апостолов или принял на веру, подчинившись авторитету частного человека, очень далек от того, чтобы быть мартиром Христа или мартиром его мартиров. Есть лишь один догмат, принятие смерти за который заслуживает это почетное имя, и этот догмат есть тот, что Иисус есть Христос, то есть тот, который искупил нас и придет снова, чтобы дать нам спасение и вечную жизнь в Его славном Царстве. Не требуется умереть за всякий догмат, служащий честолюбию или выгоде духовенства. И не смерть свидетеля, а само свидетельство делает мартира. Ибо слово μάρτνς означает лишь человека, который свидетельствует независимо от того, предан ли он смерти за его свидетельство или нет.
Точно так же не обязан потерпеть смерть за свое дело человек, который не послан проповедовать основной догмат христианства, а берет эту миссию на себя по своей собственной инициативе, хотя бы он был свидетелем и, следовательно, мартиром, будь то первичным о Христе, будь то вторичным о его апостолах, учениках или их преемниках, ибо так как он не был призван к этому, то это от него и не требуется, и не должен он жаловаться, если он теряет награду, которую он ожидал от тех, которые никогда не поручали ему дела. Немогут быть поэтому мартирами ни первой степени, ни второй степени те, которые не имеют полномочий проповедовать пришествие Христа во плоти, то есть никто, кроме таких, которые посланы, чтобы обратить неверных. Ибо никто не может служить свидетелем для того, кто уже верит, а потому и не нуждается в свидетеле, а лишь для тех, которые отрицают, или сомневаются, или не слышали того, о чем свидетельствуют. Христос послал с полномочиями проповедовать своих апостолов и своих семьдесят учеников, но Он не послал всех верующих; и послал Он апостолов и учеников к неверующим; Я посылаю вас (говорит Он) как агнцев среди волков, а не как агнцев к другим агнцам.
Наконец, в пунктах их поручения, как они ясно изложены в Евангелии, нигде не говорится о власти над собранием верующих.
Мы читаем прежде всего (Евангелие от Матфея, 10), что двенадцать апостолов были посланы к погибшим овцам дома Израилева и что им заповедано было проповедовать, что приблизилось царство небесное. Однако в своем первоначальном значении слово проповедь означает акт глашатая, герольда или другого должностного лица при прокламировании короля1. Но глашатай не имеет права приказывать что-либо кому-нибудь. И семьдесят учеников были посланы как делатели жатвы, а не как господа жатвы (Евангелие от Луки, 10, 2), и им было приказано говорить: приблизилось к вам Царство Божие. Под царством же тут подразумевается не царство благодати, а царство славы, ибо им приказано было сказать в качестве угрозы тем городам, которые не примут их, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу такому. И (Матфей, 20, 28) наш Спаситель говорит своим ученикам, добивавшимся первенства, что они должны быть слугами, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Задача проповедников таким образом не властвовать, а служить (см. также Матфей, 23, 20).
1 Гоббс имеет в виду здесь латинский глагол praedico, praedicare, означающий выкликать, а также: пропагандировать, проповедовать.
Второй пункт их поручения – это учить все народы согласно тому, как говорится в Евангелии от Матфея, 28, 19, или в Евангелии от Марка, 16, 15: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Учение и проповедование поэтому есть то же самое. Ибо те, которые провозглашают пришествие царя, должны одновременно, если они желают, чтобы люди подчинились ему, объяснить, по какому праву он приходит. Так апостол Павел поступил по отношению к фессалоникским евреям, когда он три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что сей Иисус есть Христос. Но доказывать из Ветхого Завета, что Иисус есть Христос (то есть царь) и воскрес из мертвых, не значит сказать, что люди, поверившие этому, обязаны повиноваться тем, которые говорят им так вопреки законам и повелениям их суверенов. Наоборот, это значит, что уверовавшие в Христа поступят разумно, если они будут в терпении и вере ждать следующего пришествия Христа, повинуясь пока своим нынешним властям.
Следующий пункт их поручения есть крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Что такое крещение? Погружение в воду. Но что значит погрузить человека в воду во имя чего-нибудь? Смысл этих слов следующий: тот, кто крещен, погружается или омывается в знак того, что он стал новым человеком и лояльным подданным того Бога, чье лицо в древние времена, когда Он царствовал над евреями, было представлено Моисеем и первосвященниками, а также подданным Его Сына-Богочеловека, Иисуса Христа, который искупил нас и после воскресения будет представлять в своей человеческой природе лицо Своего Отца в Его вечном Царстве. Обряд крещения символизирует дальше, что крещеный признает единственным и верным путем в Царство Божие учение апостолов, которые, исполненные Святого Духа Отца и Сына, были оставлены в качестве руководителей, чтобы привести нас в это царство. Так как это является нашим обетованием при крещении и так как власть земных суверенов не должна быть упразднена до дня суда (ибо это ясно утверждается апостолом Павлом в Первом послании к Кор., 15, 22, 23, 241), то отсюда ясно, что мы обрядом крещения не устанавливаем над собой другой власти, долженствующей управлять нашими внешними действиями в этой жизни, а обещаем принять учение апостолов как руководство по пути к вечной жизни.
1 Это место цитируется Гоббсом.
Власть отпущения и не отпущения грехов, называемая также властью «разрешать» и «связать», а иногда «ключами в царство небесное», является следствием власти крестить или отказать в крещении. Ибо крещение есть сакрамент, символизирующий верноподданство тех, которые должны быть приняты в Царство Божье, то есть в вечную жизнь, то есть те, которые должны получить отпущение грехов. Ибо подобно тому, как вечная жизнь была утеряна благодаря грехопадению, она должна быть снова найдена благодаря отпущению грехов. Целью крещения является отпущение грехов. И поэтому, когда те, которые были обращены проповедью апостола Петра в день пятидесятницы, спросили его, что им делать, он посоветовал им покаяться и быть крещенными во имя Иисуса ради отпущения грехов. Так как крестить означает объявить о принятии людей в Царство Божие, а отказать в крещении значит объявить об их исключении, то отсюда следует, что власть объявить людей извергнутыми из Царства Божия или удержанными в нем была дана тем же самым апостолам, их заместителям и преемникам. И вот почему, после того как наш Спаситель дунул на них, сказав: примите Духа Святого, он прибавляет: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Этими словами не жалуется безоговорочная и абсолютная власть прощать и оставлять грехи так, как прощает и оставляет их Бог, ведающий сердце человека и правду его покаяния и обращения. Этими словами дается апостолам лишь условная власть отпускать грехи покаявшимся. И это прощение или отпущение без всякого особого акта или решения отпускающего становится недействительным и не влечет за собой никакого спасения, а, наоборот, усугубляет грех в том случае, когда покаяние прощенного было притворным. Поэтому апостолы и их преемники должны сообразоваться с внешними проявлениями раскаяния. Если такие внешние проявления имеются, они не имеют права отказать в отпущении грехов; если же таких признаков нет, они не имеют права отпускать. То же самое надо сказать и относительно крещения. Ибо обращенному еврею или язычнику апостолы не имеют права отказать в крещении, но они не имеют права крестить непокаявшегося. Однако ввиду того что человек может судить об искренности покаяния другого человека лишь по внешним признакам, а именно на основании его слов и действий, которые могут быть лицемерными, то возникает другой вопрос, а именно: кто же установлен судьей этих признаков? И этот вопрос решен самим нашим Спасителем. Если согрешит против тебя брат твой (говорит Он), пойди и обличи его между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник или мытарь 1. Из приведенных слов видно, что право судить об искренности или лицемерии покаяния принадлежало не отдельному человеку, а церкви, то есть собранию верующих, или тем, кто имел полномочия быть их представителями. Но кроме суждения необходимо еще произнесение приговора. И это право всегда принадлежало апостолу или какому-нибудь пастырю церкви как председателю собрания. И об этом председателе наш Спаситель говорит в 18-м ст.: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И в соответствии с этим находится практика апостола Павла, как видно из Посланий к Кор., 5, 3, 4, 5, где приговор об исключении из церкви грешника произносит апостол Павел, но собрание должно было предварительно слушать дело и, следовательно, признать грешника виновным. А что суд в таких вопросах был делом собрания верующих, еще более ясно выражено в 11 и 12-м ст. той же главы. Приговор таким образом, согласно которому человек исключался из церкви, произносился апостолом или пастырем, но суждение о том, заслуживает ли или не заслуживает подсудимый подобного наказания, имела церковь, то есть (так как это было еще до обращения в христианство царей и людей, имеющих верховную власть в государстве) собрание христиан, живущих в том же самом городе, например, в Коринфе собрание христиан Коринфа.
1 Матфей, 18, 15, 16, 17.
Это часть власти ключей, которой люди извергались из Царства Божия, есть то, что называется отлучением от церкви, а отлучение от церкви в греческом оригинале обозначается словами άποσυνάγωγον ποιείν, выбросить из синагоги, то есть из места, посвященного богослужению. Слово это позаимствовано из обычая евреев исключать из их синагог таких, порочные нравы или преступное учение которых они считали заразительными подобно тому, как прокаженные по закону Моисея изымались из собрания Израиля на все время, пока они не были объявлены священником чистыми.
Практика и последствия отлучения от церкви, пока это отлучение не сопровождалось еще карами гражданской власти, заключались лишь в том, что те, которые не были отлучены, должны были избегнуть всякого общения с теми, которые были. Недостаточно было считать таких отлученных как бы язычниками, никогда не бывшими христианами. Ибо с язычниками христиане могли пить и есть вместе, между тем как с такими отлученными они этого не могли делать, как это явствует из слов апостола Павла (Первое послание к Коринфянам, 5, 9, 10. 11, 9), где он говорит им, что он раньше запретил им сообщаться с блудниками, но (так как этого нельзя было бы выполнить, не выходя из мира сего) он оставляет это запрещение по отношению к таким блудникам и другим порочным лицам, которые принадлежат к числу братьев. С таким они не должны сообщаться и даже не есть вместе. И это не больше того, что говорит наш Спаситель (Матфей 18, 17): то да будет он тебе как язычник или мытарь. Ибо мытари (что означает откупщики и сборщики государственных доходов) были так ненавидимы и презираемы евреями, которые должны были платить им, что мытари и грешники были для них одно и то же; и когда наш Спаситель принял приглашение мытаря Закхея, то Ему это было вменено в преступление, хотя приглашение было принято с целью его обращения. И поэтому, когда наш Спаситель к слову язычник прибавляет мытарь, то это значит, что Он запретил им есть вместе с отлученным человеком.
Однако запретить вход в синагогу, то есть в помещение для собраний, мог только собственник этого помещения независимо от того, был ли это христианин или язычник. А так как по праву все помещения находились в верховной собственности государства, то как отлученные, так и те, которые никогда не получили крещения, могли войти в них по поручению гражданской власти. Так, например, апостол Павел до своего обращения входил по поручению первосвященника в синагоги в Дамаске, чтобы хватать христиан, мужчин и женщин и, связав, отводить в Иерусалим. Выходит, таким образом, что в тех местах, где гражданская власть преследовала или не оказывала содействия церкви, отлучение от церкви не влекло за собой никакого вреда в этом мире и не имело ничего устрашающего для христианина, ставшего вероотступником. Ничего устрашающего, ибо такой вероотступник больше не верил, и никакого ущерба, ибо такие отступники приобретали снова благоволение мира, а в будущем мире они не должны были быть в худшем положении, чем те, которые никогда не были верующими. Ущерб скорее получала церковь, побуждая отлученных к более открытому выявлению своих преступных намерений. Отлучение от церкви поэтому оказывало свое действие лишь на тех, которые верили, что Иисус Христос должен прийти снова во славе, чтобы царствовать и судить как живых, так и мертвых, и что Он поэтому не допустит в свое царство тех, чьи грехи были оставлены, то есть тех, которые были отлучены от церкви. И вот почему апостол Павел обозначает отлучение от церкви как передачу отлученного лица сатане. Ибо все другие царства, помимо царства Христа, после дня суда обозначаются общим именем царства сатаны. Вот чего боялись верующие все время, пока они были отлучены, то есть пока они были в таком состоянии, когда их грехи не были отпущены. Отсюда мы можем заключить, что в то время, когда христианская религия еще не была признана гражданской властью, отлучение от церкви применялось исключительно для исправления нравов, а не для исправления ошибочных мнений. Ибо отлучение является наказанием, чувствительным лишь для верующих и ожидающих второго пришествия нашего Спасителя, чтобы судить мир; а те, которые так верили, не нуждались для своего спасения в другом мнении, а лишь в праведной жизни.
Основанием для отлучения от церкви служили: во-первых, учиненная кому-нибудь несправедливость, как, например (Матфей, 18), если согрешил против тебя брат твой, обличи его между тобой и им одним, за тем при свидетелях, наконец скажи церкви, и если он и тогда не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь; во-вторых, порочная жизнь, как (Первое послание к Коринфянам, 5, 11): кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или пьяницей, или хищником с таким даже и не есть вместе. Но для отлучения от церкви человека, признающего основной догмат, а именно что Иисус был Христом, за инакомыслие в других пунктах, не затрагивающих этого основного догмата, Писание не дает никакого основания, и мы не находим у апостолов подобного примера. Правда, имеется место у апостола Павла (Послание к Титу, 3, 10), которое как будто говорит против нашего утверждения: еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. В самом деле, еретик – это тот, который, будучи членом церкви, тем не менее, проповедует некие частные взгляды, запрещенные церковью, и от такого человека апостол Павел советует Титу отвращаться после первого и второго вразумления. Но отвращаться (в этом месте) не значит отлучить от церкви, а перестать его вразумлять, оставить его одного, перестать спорить с ним как с человеком, который лишь сам может убедиться в ошибочности своих взглядов. Тот же апостол говорит (Второе послание к Титу, 2, 23): от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Словам: уклоняйся в этом месте и от вращайся в первом, в греческом, оригинале соответствует один и тот же глагол παραιτού. Глупые же состязания могут быть прекращены без всякого отлучения. И опять (Послание к Титу, 3, 9): глупых споров удаляйся, где выражение греческого оригинала περιίστασο равнозначительно прежнему отвращайся. Нет другого места, которое можно было бы попользовать с таким, казалось бы, успехом в пользу отлучения от церкви верующих людей, признающих основной догмат христианства лишь за отдельную собственную надстройку, к которой, может быть, побуждает их искреннее благочестие. Однако, напротив, все такие места, повелевающие избегать таких споров, писаны как наставления пастырям (какими были Тимофей и Тит) не устанавливать новых догматов веры, давая решения по всякому мелочному спору, что повело бы к бесполезному обременению совести людей или к церковному расколу. Это наставление сами апостолы строго соблюдали. Между апостолом Петром и апостолом Павлом (как это можно прочесть в Послании к Гал., 2, 11) существовали большие расхождения во взглядах, и, однако, они не отлучали друг друга от церкви. Тем не менее уже во времена апостолов были другие пастыри, которые не соблюдали этого наставления. Так, например, Диотреф (Третье послание Иоанна, 9 и дальше), любивший первенствовать, не принимал в церковь таких, которых сам апостол Иоанн считал должным принимать. Так рано проникли тщеславие и честолюбие в церковь Христа.
Для того чтобы человек мог быть подвергнут отлучению, требуются многие условия. Во-первых, он должен быть членом какого-нибудь общества, то есть какого-нибудь законного собрания, то есть какой-нибудь христианской церкви, имеющей право юрисдикции по тому делу, за которое он должен быть отлучен. Ибо там, где нет общества, не может иметь места отлучение, а там, где нет права юрисдикции, нет права постановления приговора.
Отсюда следует, что одна церковь не может быть отлучена другой. Ибо если обе церкви имеют одинаковую власть отлучать друг друга, тогда отлучение является не наказанием и не актом власти, а расколом и прекращением благотворительности (dissolution of charity). Если же одна из этих церквей подчинена другой так, что они вместе имеют один голос, тогда они составляют одну церковь, и отлученная часть не является больше церковью, а представляет собой разрозненное число индивидуальных лиц.
И так как приговор об отлучении означает совет не сообщаться и даже не есть вместе с отлученным, то, если отлученными являются суверенный монарх или суверенное собрание, приговор недействителен. Ибо все подданные обязаны в силу естественного закона быть в обществе и в присутствии своего суверена (если он этого требует), и не могут подданные законным образом исключить своего суверена с какого-либо, будь то обыденного, будь то священного, места внутри его владений, да и сами не могут без его разрешения оставить пределы его владений, а тем меньше могут они отказаться есть вместе с ним (если он окажет им честь таким приглашением). А что касается других монархов и других государств, то они, не принадлежа к той же конгрегации, что и отлученное государство, не нуждаются в особом приговоре, чтобы воздержаться от общения с ним. Ибо само установление государства таково, что, объединяя много людей в одно общество, оно в то же время изолирует одно общество от другого, так что не требуется никакого отлучения для того, чтобы разные короли и государства держались врозь, и ничего нового такое отлучение не вносит в существующие отношения между государствами, разве только что оно подстрекает королей к войне друг против друга.
Отлучение не имеет также никакого значения для подданного христианина, повинующегося законам своего суверена независимо от того, является ли последний христианином или язычником. Ибо если этот подданный верует, что Иисус есть Христос, то он имеет дух Божий (Первое послание Иоанна, 4, 1) и Бог пребывает в нем и он в Боге (там же, 4, 15). Но тому, кто исполнен духа Божия, тому, кто пребывает в Боге, тому, в ком пребывает Бог, отлучение от людей не может причинить никакого вреда. Поэтому, кто верует, что Иисус есть Христос, свободен от всех опасностей, которые угрожают отлученным лицам. Тот же, кто не верует, не является христианином. Поэтому истинный и непритворный христианин не подлежит отлучению. Точно так же не подлежит отлучению тот, кто лишь с виду исповедует христианство, до тех пор, пока его лицемерие не обнаружится в его нравах, то есть до тех пор, пока его поведение не окажется в противоречии с законами его суверена, которые являются правилами поведения и повиноваться которым заповедали нам Христос и апостолы. В самом деле, церковь может судить о нравах человека лишь по его внешним деяниям, а эти деяния лишь тогда противозаконны, когда они противоречат закону государства.
Если отлучению подвергаются чьи-либо отец, мать или хозяин, то детям не может быть запрещено общаться с ними и есть с ними вместе, ибо (в большинстве случаев) это значило бы обязать их вообще не есть вследствие неимения собственных средств к существованию; кроме того, это значило бы поощрять их к неповиновению своим родителям и хозяевам, что противоречит правилу апостолов.
Коротко говоря, действие отлучения от церкви не простирается дальше той цели, ради которой апостолы и пастыри церкви получили свои полномочия от нашего Спасителя. Эта цель состояла в том, чтобы вести людей путем спасения в будущий мир не приказаниями и средствами принуждения, а учением и руководством. И подобно тому, как учитель какой-нибудь отрасли знания может оставить своего ученика, когда этот последний упорно пренебрегает преподанными ему правилами, но не может его обвинить в несправедливости, так как он никогда не обязался повиновением ему, точно так и учитель христианства может оставить тех своих учеников, которые упорно ведут нехристианский образ жизни, но он не может сказать, что эти ученики совершают по отношению к нему несправедливость, ибо они не обязаны повиноваться ему. И учителю, который жалуется на такое поведение своих учеников как на несправедливость, можно ответить словами, которыми Бог ответил на аналогичную жалобу Самуила: не тебя они отвергли, но отвергли Меня. Если поэтому отлучение от церкви не влечет за собой никаких кар со стороны гражданской власти, как, например, в случаях отлучения монарха или государства какой-нибудь иностранной властью, то оно безрезультатно и, следовательно, не должно оказывать никакого устрашающего действия. Слово fulmen excommunicationis (то есть молния отлучения от церкви) впервые употреблено римским епископом, вообразившим себя царем царей подобно тому, как язычники сделали Юпитера царем богов и изображали его в своих поэмах и картинах с молнией в руке, которой он поражает и наказывает гигантов, осмеливающихся отрицать его власть. Указанное представление римского епископа основано на двух заблуждениях. Первое заблуждение заключается в представлении, будто царство Христа от мира сего, каковое представление противоречит собственным словам нашего Спасителя: царство Мое не от мира сего. Второе заблуждение заключается в представлении римского епископа, будто он является наместником Христа, имеющим власть не только над собственными подданными, но и над всеми христианами мира, для чего в Писании не имеется никакого основания и обратное чему будет доказано в надлежащем месте.
Апостол Павел, пришедши в Фессалоники, где была иудейская синагога, по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что сей Христос есть Иисус, которого он им проповедует. Писаниями, о которых здесь говорится, было писание евреев, то есть Ветхий Завет. Люди, которым апостол Павел должен был доказывать, что Иисус есть Христос и воскрес из мертвых, были также евреи, которые уже верили, что Ветхий Завет есть слово Божье. После этого некоторые из них уверовали, а некоторые не уверовали. Но раз все они верили в писания, то почему они не все одинаково уверовали, а одни одобрили толкования апостолом Павлом цитируемых им писаний, другие же не одобрили, толкуя их каждый по-своему? Причина этого была следующая. Апостол Павел пришел к ним без официального поручения и не с тем, чтобы повелевать, а с тем, чтобы убедить. Для успешного выполнения этой последней задачи он должен был необходимо или совершать чудеса, с тем чтобы Господними делами доказать своим слушателям свою божественную миссию подобно тому, как это делал Моисей перед израильтянами в Египте, или же умозаключением из уже принятого писания доказать своим слушателям истину своего учения на основании слова Божия. Но всякий, кто убеждает путем умозаключений из писаных принципов, делает того, кого он убеждает, судьей как смысла этих принципов, так и логической силы умозаключений из них. Если фессалоникские евреи не были этими судьями, то кто же другой мог быть судьей того, что апостол Павел умозаключал из писания? Если сам апостол Павел, то зачем ему было приводить цитаты из писания, чтобы доказать свое учение? Ему достаточно было бы в этом случае сказать: я нахожу то-то и то-то в писании, то есть в ваших законах, толкователем которых я, как посланный Христом, являюсь. Не было поэтому в данном случае такого толкователя писания, толкования которого фессалоникские евреи обязаны были принять, и всякий мог верить или не верить в зависимости от того, насколько доводы апостола Павла казались ему соответствующими или не соответствующими смыслу цитируемых мест. И вообще во всех случаях мира тот, кто доказывает что-нибудь, делает судьей своих доводов того, к кому он обращается с речью. А что касается в частности евреев, то им определенно (Второзаконие, 17) было вменено в обязанность обращаться за решением всех трудных вопросов к священникам и судьям в Израиле, которые будут в те дни. Но это следует разуметь о евреях, которые еще не были обращены.
Для обращения в христианство язычников бесполезно было ссылаться на писания, в которые они не верили. Апостолы поэтому старались доводами разума доказать им нелепость идолопоклонства, а затем рассказами о жизни и воскресении Христа склонить их к вере в Него. Так что здесь не могло быть никакого вопроса насчет полномочий в отношении толкования писания, ибо никто из неверных, пока он был неверным, не обязан был следовать чьему бы то ни было толкованию какого-нибудь писания, за исключением толкования сувереном законов своей страны.
Рассмотрим теперь самый акт обращения и посмотрим, что в нем было такого, что могло бы служить основанием такого обязательства. Актом обращения люди склонялись лишь к вере в то, что проповедовали апостолы. А апостолы проповедовали лишь, что Иисус есть Христос, то есть тот царь, который должен был спасти их и царствовать над ними вовеки в будущем мире, и что Он, следовательно, не мертв, а воскрес снова из мертвых и взошел на небо и придет снова в один день, чтобы судить мир (который также снова воскреснет, чтобы быть судимым) и воздать человеку по его делам. Никто из них не проповедовал, будто он сам или какой-нибудь другой апостол является таким толкователем писания, что все те, которые стали христианами, обязаны принять их толкование как закон. Ибо толковать законы есть часть управления существующим царством, которого апостолы не имели. Апостолы же тогда молились, а все другие пастыри церкви с тех пор молятся: да приидет царство Твое и увещевали своих новообращенных повиноваться своим князьям-язычникам. Новый Завет еще не был тогда опубликован в кодифицированном виде. Каждый из евангелистов был истолкователем своего собственного Евангелия, и каждый апостол – своего собственного послания.
А о Ветхом Завете наш Спаситель сам говорит евреям: исследуйте писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне. Если бы он не думал, что им следует истолковать писания, Он бы не предлагал им почерпать оттуда доказательство того, что Он есть Христос, и Он или сам истолковал бы им писания, или же отослал бы их к толкованию священников.
Когда возникала какая-нибудь трудность, апостолы и старейшины церкви собирались и решали, что следует проповедовать, чему учить и как следует истолковать писание народу, но они не отнимали у народа свободы самому читать и толковать писания. Апостолы посылали всякого рода письма церквам, а также всякие другие послания в целях их наставления, что было бы бесцельно, если бы они не позволяли им толковать эти послания, то есть доискиваться их смысла. И такое положение дел, какое существовало во времена апостолов, должно остаться до того времени, пока не будет пастырей, которые могли бы дать такие полномочия толкователю, в силу которых его толкования должны были бы стать общеобязательными. Но это могло бы быть лишь тогда, когда короли стали бы пастырями или пастыри королями.
Когда мы говорим, что какое-нибудь сочинение объявлено каноническим, то это имеет двоякий смысл. Ибо канон означает правило, и именно правило, которым человек должен руководствоваться в каком-нибудь действии. Такие правила даже в таких случаях, когда дающий их не имеет власти заставить следовать им того, кому он их дает, как, например, когда учитель преподает их своему ученику или советчик своему другу, все же есть каноны, так как они являются правилами. Но если они даются кем-нибудь, кому тот, кто их получает, обязан повиноваться, тогда такие каноны становятся не только одними лишь правилами, а и законами. Тут-то и встает вопрос, кому принадлежит власть объявить писания (являющиеся правилами христианской веры) законами.
Впервые стала законом часть писания, содержащая десять заповедей, которые были написаны на двух каменных скрижалях и переданы самим Богом Моисею, а Моисеем объявлены народу. До этого времени не было никакого писаного закона Бога. Ибо так как Бог до того времени не избрал никакого народа в качестве Своего особого царства, то Он не дал людям никакого закона, кроме естественного закона, то есть правил естественного разума, начертанных в сердце всякого человека. Из этих двух скрижалей первая содержит закон суверенитета. 1. Не повиноваться и не поклоняться богам других народов, что формулировано в следующих словах: non habebis deos alienos coram me, т. e. да не будут у тебя богами кроме Меня одного боги, которым поклоняются другие народы. Этой заповедью евреям запрещалось повиноваться и поклоняться как своему царю и управителю какому-либо другому богу, кроме Бога, который говорил с ними тогда через Моисея, а впоследствии через первосвященников. 2. Не делать себе никакого изображения, представляющего Бога, то есть они не должны были себе избрать ни на небе, ни на земле никакого представителя по своему собственному измышлению, а повиноваться Моисею и Аарону, которых Бог определил для этого служения. 3. Не произносить имени Господа напрасно, то есть они не должны опрометчиво говорить о своем Царе и не должны оспаривать Его права и полномочия наместников Бога – Моисея и Аарона. 4. Каждый седьмой день почить от обычной работы, посвящая этот день публичному богослужению. Вторая скрижаль содержит обязанности одного человека по отношению к другому, как почитать родителей, не у бивать, не прелюбодействовать, не красть, не способствовать неправедному судебному приговору лжесвидетельством и, наконец, не замышлять в сердце своем никакого зла против своего ближнего. Вопрос теперь в том, кто же придал этим скрижалям обязательную силу закона. Нет никакого сомнения в том, что они были объявлены законами самим Богом. Но так как закон может быть обязательным и быть законом лишь для тех, кто признает его актом суверена, то как мог обязаться повиноваться всем законам, возвещенным ему Моисеем, народ израильский, которому было запрещено приблизиться к горе, где он мог бы услышать, что Бог сказал Моисею? Некоторые из этих заповедей, как, например, все содержавшиеся во второй скрижали, были действительно естественными законами и должны были быть поэтому признаны как законы Бога не только израильтянами, но и всеми народами. Но по отношению к тем заповедям, которые были адресованы исключительно израильтянам, как, например, к тем, которые содержались в первой скрижали, наш вопрос остается в силе. И единственным ответом на него может быть лишь то, что израильтяне обязались повиноваться Моисею немедленно по возвещении им десяти заповедей следующими словами (исход 20, 19): говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Таким образом тогда только один Моисей, а после него первосвященник, которого Бог (через Моисея) назначил управлять его особым царством, имели на земле власть объявить эти десять заповедей законами в Израильском государстве. Но Моисей и Аарон и последующие первосвященники были гражданскими суверенами. Из этого, таким образом, следует, что право канонизации и объявления писания законом принадлежит гражданскому суверену.
Судебный устав, то есть законы, которые Бог предписал должностным лицам Израиля в качестве правил, которыми они должны были руководствоваться при отправлении правосудия и при произнесении приговоров и судебных решений в тяжбах между человеком и человеком, а также левитский устав, то есть правила, которые Бог предписал относительно обрядов и церемоний священников и левитов, были сообщены соответствующим адресатам одним лишь Моисеем, и поэтому они стали законами в силу того же обета израильтян повиноваться Моисею. Из текста писания не видно, были ли эти законы писаны или лишь устно продиктованы народу Моисеем (после его сорокадневного пребывания с Богом на горе), но они все были положительными законами и равноценными Священному Писанию и сделаны были каноническими гражданским сувереном Моисеем.
Когда израильтяне пришли в землю моавитскую против Иерихона и уже готовы были вступить в обетованную землю, Моисей к прежним законам прибавил разные другие, которые поэтому называются Второзаконием. И это (как сказано во Второзаконии, 29) слова Завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами израилевыми, кроме Завета, который Господь поставил с ними на Хориве. Ибо, изложив в начале книги Второзакония те первые законы, Моисей, начиная с двенадцатой главы до конца двадцать шестой той же книги, прибавляет к ним другие. Эти именно законы приказано было израильтянам написать при переходе их через Иордан на больших камнях, обмазанных известью. Эти законы были также вписаны самим Моисеем в книгу и переданы священникам и старейшинам сынов израилевых, и последним было повелено положить эту книгу одесную ковчега Завета, ибо в самом ковчеге были лишь десять заповедей. Относительно именно этого закона Моисей повелел, чтобы цари израильские списали себе список, и это тот же закон, который был долгое время потерян и был снова найден потом в храме в царствование Иосии и властью последнего был объявлен законом Бога. Но Моисей, записавший этот закон, и Иосия, открывший его снова, оба обладали гражданской верховной властью. Отсюда поэтому следует, что право объявить писание каноническим принадлежало гражданской верховной власти.
Кроме этой книги закона, никакая другая книга не считалась у евреев законом Бога на протяжении периода, протекшего со времени Моисея до после плена. Ибо пророки (за исключением немногих) жили в эпоху плена или незадолго перед ней, и не только их пророчества не считались законом, но они даже лично преследовались отчасти лжепророками, отчасти царями, сведенными этими лжепророками с пути истины. И самая эта книга, утвержденная Иосией в качестве закона Бога, а с ней вся история дел Господних были потеряны во время плена и разграбления города Иерусалима, как это явствует из Третьей книги Ездры 14, 21: закон твой сожжен, и от того никто не знает, что сделано тобой или что должно им делать. А перед пленом, на протяжении периода между временем, когда закон был утерян (точно время в Писании не указывается, но можно предполагать, что это было в царствование Ровоама, когда царь египетский Сусаким разграбил храм), и временем Иосии, когда он был снова найден, евреи не имели писаного слова Божия, а руководствовались своим собственным усмотрением или подчинялись руководству тех, кого каждый из них считал пророком.
Отсюда мы можем заключить, что писания Ветхого Завета, которые мы имеем сейчас, не были каноническими, а также не были законом у евреев до возобновления их Завета с Богом по возвращении из плена и восстановлении их государства при Ездре. Начиная же с этого времени, они считались у евреев законом, и как таковой они были переведены на греческий язык семьюдесятью старейшинами Иудеи и помещены в библиотеку Птоломея в Александрии и были признаны словом Божиим. Ввиду того что Ездра был первосвященником, а первосвященник был гражданским сувереном, то очевидно, что писания во все времена объявлялись законом исключительно лишь верховной гражданской властью.
Из писаний Отцов Церкви, которые жили в эпоху до признания государством христианской религии и писания которых были авторизованы императором Константином, мы знаем, что книги Нового Завета, которые мы сейчас имеем, считались христианами того времени (за исключением немногих, ввиду малочисленности которых все остальные считались католической церковью, а эти немногочисленные еретиками) наставлениями Святого Духа и, следовательно, каноном, или правилом, веры. Так ценили и уважали тогдашние христиане своих учителей, как обычно ученики относятся с немалым уважением к своим первым учителям, от которых они восприняли какое-нибудь учение. Поэтому нет сомнения в том, что когда апостол Павел направлял свои послания тем церквам, которые он обратил, или когда какой-нибудь другой апостол или ученик Христа посылал послания тем, которые тогда уверовали в Христа, то эти послания воспринимались теми, кому они были адресованы, как истинное христианское учение. Но так как в то время не власть и полномочия учителей, а вера самих слушателей побуждала их воспринимать указанным образом слова учителей, то это значит, что не апостолы делали свои собственные писания каноническими, а каждый обращенный делал их таковыми для себя.
Однако вопрос здесь не в том, что какой-либо христианин сделал законом, или каноном, для себя (что он может снова отверг путь по тому же праву, по которому он это принял), а в том, что было сделано каноном для христиан так, что они, не совершая беззакония, не могут ничего совершать против этого. Предположение о том, что Новый Завет может в этом смысле быть каноном, то есть законом, в таком месте, где закон государства не сделал его таковым, противоречит естественному закону. Ибо закон (как уже было показано) есть постановление человека или собрания, которым мы дали верховное право издавать такие правила для руководства нашими деяниями, какие они сочтут разумными, и наказывать нас, когда мы делаем что-либо против них. Если поэтому кто-либо иной предложит нам правила, которых верховный правитель не предписал, то такие правила являются лишь советом, и, хорош ли он или плох, тот, кому этот совет дается, может, не совершая беззакония, отказаться соблюдать его. А если этот совет противоречит уже установленным законам, то тот, кому он дается, не может, не совершая беззакония, соблюдать его, каким бы разумным он ни считал его. Я говорю, что он не может в этом случае руководствоваться им в своих действиях и в разговоре с другими людьми, хотя он может, не совершая этим ничего предосудительного, верить своим частным учителям и желать, чтобы они имели свободу осуществить свой совет и чтобы этот совет был объявлен государством законом. Ибо внутренняя вера по самой природе своей невидима и изъята из человеческой юрисдикции, между тем как проистекающие из нее слова и действия, являющиеся нарушением нашей обязанности гражданского повиновения, представляют собой беззаконие по отношению к Богу и к человеку. Принимая во внимание, что Спаситель объявил Свое царство не от мира сего и что Он заявил, что Он пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти мир, то Он не подчинил нас никаким иным законам, кроме законов государства, то есть евреев – законам Моисея [о которых он говорит (Матфей, 5), что он пришел не разрушать их, а исполнять], а другие народы – законам их различных суверенов, а всех людей – естественным законам. Соблюдение законов государства сам наш Спаситель и Его апостолы рекомендовали нам в своем учении как необходимое условие, чтобы быть допущенными им в последний день в Его вечное царство, где будет защита и вечная жизнь. Ввиду того что как Спаситель, так и Его апостолы оставили не новые законы, которые обязали бы нас в этом мире, а новое учение, имеющее целью подготовить нас к ближайшему миру, то книги Нового Завета, содержащие это учение, не являются обязательными канонами, то есть законами, до тех пор пока повиновение им не сделано обязательным постановлением тех, кому Бог дал на земле власть быть законодателями, а до этого они являются лишь добрыми и спасительными советами для направления грешников на путь спасения – советами, которые всякий человек, не совершая беззакония, может на свой страх и риск принять или отвергать.
Кроме того миссия, возложенная Спасителем Христом на Его апостолов и учеников, заключалась в том, чтобы прокламировать Его (не настоящее, а будущее) царство и учить все народы и крестить их, чтобы они уверовали, и входить в дома тех, которые примут их, а там, где они не были бы приняты, отряхнуть прах с ног Своих, но не призывать на них небесный огонь, чтобы погубить их, и не принуждать их к повиновению силой меча. Во всем перечисленном нет ничего, что говорило бы о власти, а все говорит лишь об убеждении. Он послал их как овец в среду волков, а не как царей к своим подданным. Они не были уполномочены издавать законы, а лишь повиноваться и учить повиноваться существующим законам, и, следовательно, они не могли сделать свои писания обязательными канонами без помощи верховной гражданской власти. И поэтому писания Нового Завета лишь там имеют силу закона, где законная гражданская власть их сделала таковыми. И здесь также король или суверен делает это законом для себя, причем этим законом он подчиняется не пастырю или апостолу, который его обратил, а непосредственно, как и сами апостолы, самому Богу и Его Сыну Иисусу Христу.
Некоторую видимость, будто в эпоху и в местах преследования христиан Новый Завет имел силу закона для тех, кто принял христианское учение, могут породить постановления, изданные христианскими синодами. Ибо мы читаем (Деяния 15, 28), что совет апостолов, старейшин и всей церкви выражается в таком стиле: угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, что говорит как будто о власти возлагать бремя на тех, кто принял их учение. Но возлагать бремя на другого есть как будто то же самое, что обязать, и поэтому может казаться, что постановления этого совета были законами для тогдашних христиан. И однако они были не в большей мере законами, чем другие правила: покайся, крестись, соблюдай заповеди, веруй в Евангелие; придите ко Мне; продай все, что имеешь, раздай это бедным и следуй за Мной. Эти правила являются не повелениями, а приглашениями и призывами к людям принять христианство аналогично призыву Исаии (55, 1): жаждущие идите все к водам, покупайте без платы вино и молоко. Прежде всего власть апостолов не была иной, чем власть нашего Спасителя, а это была власть приглашать людей принять Царство Божье, которое они сами считали царством не настоящего, а будущего; и так как они не имели царства, то они не могли составлять законы. И, во-вторых, если постановления совета апостолов были бы законами, они не могли бы быть нарушены без греха. Однако же мы нигде не читаем, чтобы те, которые не приняли учения Христа, совершали этим грех, а лишь читаем, что они умирали в своих грехах, то есть что грехи против законов, повиновением которым они обязаны, не были прощены. И этими законами были естественные законы и гражданские законы государства, которому всякий христианин подчинил себя договором. И поэтому под бременем, которое апостолы могли возложить на обращенных, следует понимать не законы, а условия, предложенные тем, кто искал спасения. Последние могли на свой страх и риск принять или отвергнуть эти условия, не совершая во втором случае нового греха, хотя не без опасности быть осужденными и исключенными из Царства Божия за их прошлые грехи. И вот почему апостол Иоанн не говорит о неверующих, что они навлекут на себя гнев Божий, а что гнев Божий пребывает на них, а также не говорит оно них, что они будут осуждены, а что они уже осуждены. Точно так же нельзя себе представить, что благодетельный результат веры есть отпущение грехов, не представляя себе одновременно, что вред неверия есть оставление тех же самых грехов.
Однако для какой же цели (спросит, пожалуй, кое-кто) апостолы, а после них другие пастыри церкви стали бы собираться и сговариваться насчет того, какое учение следует установить как в отношении веры, так и в отношении образа жизни, если бы никто не был обязан соблюдать их постановления? На это можно ответить, что апостолы и старейшины этого собора уже в силу факта своего вступления в него были обязаны пропагандировать то учение, которое на нем было установлено и решено распространять, поскольку это не шло в разрез с более ранним законом, которому они обязаны были повиновением, но это не значит, что все другие христиане были бы обязаны соблюдать то, чему эти соборы учили. Ибо хотя они могли обсуждать, чему каждый из них должен учить, они однако не могли обсуждать, что другие должны делать, поскольку их собрания не имели законодательной власти, которую могут иметь лишь гражданские суверены. Действительно, хотя Бог является сувереном всего мира, мы не обязаны принимать за Его закон все, что кто-либо предложит от Его имени, а также не можем мы считать законом Бога ничего, противоречащего гражданскому закону, которому Бог определенно заповедал нам повиноваться.
Если постановления апостольских соборов не были законами, а советами, то еще в меньшей мере являются законами постановления других учителей церкви или соборов, имевших место с тех пор, если они собирались без полномочий гражданского суверена. И следовательно, хотя книги Нового Завета содержат самые совершенные правила христианского учения, они все же не могут быть сделаны законами какой-либо другой властью, кроме власти королей и верховных собраний.
О первом соборе, объявившем каноническими имеющиеся у нас теперь писания, не сохранилось никаких известий. Ибо собрание канонов апостолов, приписанное первому после апостола Петра епископу Рима, Клименту, является сомнительным. Дело в том, что хотя в этом собрании подведены итоги каноническим книгам, однако слова: sint vobis omnibus clericis et laicis libri venerandi (да будут эти книги всем вам, духовным лицам и мирянам, предметом поклонения) содержат разделение христиан на духовных лиц и мирян, не имевшее места в практике эпохи, столь близкой к апостолу Петру. Первым известным собором, установившим каноническое писание, является Лаодикийский собор, запретивший чтение других книг сверх тех, которые были им объявлены каноническими. Это предписание было адресовано не всякому христианину, а лишь тем, кто имел полномочия читать что-нибудь публично в церкви, то есть было адресовано лишь духовенству.
Из должностных лиц церкви в эпоху апостолов некоторые имели наставнические функции, другие – чисто служебные. В задачи первых входило благовествование Царства Божия неверующим, совершение таинств и богослужения и наставление новообращенных в правилах веры и поведения. Служебными были должности дьяконов, то есть тех, которые были назначены заботиться о мирских потребностях церкви в такое время, когда весь клир жил на общие средства, собранные с доброхотных пожертвований верующих.
Среди наставнических должностных лиц первыми и главными были апостолы, которых было вначале двенадцать. Они были избраны и поставлены самим нашим Спасителем. В их задачи входило не только проповедовать, учить и крестить, но также быть мартирами (свидетелями воскресения нашего Спасителя). Это свидетельство было специфическим и существенным признаком, которым апостольство отличалось от всякой другой духовной должности. Ибо апостолом мог быть лишь тот, который или видел нашего Спасителя после Его воскресения, или общался с Ним до этого и видел Его дела и другие доказательства Его божественности, и только при этих условиях он мог считаться компетентным свидетелем. И поэтому при выборе нового апостола на место Иуды Искариота апостол Петр говорит (Деяния, 1, 21, 22): Итак, надобно, чтоб один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывали обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе снами свидетелем воскресения Его. Слово надобно подчеркивает здесь как необходимую особенность апостола факт его общения с первыми и избранными апостолами в то время, когда наш Спаситель открылся во плоти.
Первым апостолом из тех, которые не были назначены Христом во время его пребывания на земле, был Матвей, избранный следующим образом. В Иерусалиме собралось около ста двадцати христиан. Они наметили двух, Иосифа Иуста и Матфея, и бросили жребий; и выпал жребий Матфею, и он был сопричислен к апостолам (Деяния, 1, 26). Таким образом, мы здесь видим, что назначение этого апостола было актом собрания, а не апостола Петра, а все одиннадцать апостолов участвовали в этом избрании лишь как члены собрания.
После Матфея никто не был назначен апостолом, кроме Варнавы и Павла, назначение которых, как мы читаем (Деяния, 13, 1, 2, 3), произошло следующим образом. В Антиохии в тамошней церкви были не которые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киренеянин, и Манаил совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Из этой цитаты видно, что хотя Варнава и Савл были призваны Святым Духом, однако это призвание было им объявлено и их миссия была утверждена местной церковью Антиохии. А что их призвание было к апостольству, видно из того, что они оба названы апостолами. А что они стали апостолами именно в силу этого акта антиохийской церкви, ясно видно из того факта, что апостол Павел (К Римлянам, 1, 1) употребляет те слова, которые употребил Святой Дух при его призвании. Ибо он величает себя апостолом, избранным к благовестию Божию, намекая на слова Святого Духа: отдели Мне Варнаву и Савла и т. д. Однако ввиду того что делом апостола было быть свидетелем воскресения Христа, то кое-кто может спросить здесь: каким же образом апостол Павел, не общавшийся с Христом до Его страстей, мог знать о Его воскресении? На этот вопрос легко ответить, что сам наш Спаситель явился после Его вознесения к апостолу Павлу с неба на пути в Дамаск и избрал его сосудом, чтобы возвещать имя Его перед язычника ми и сынами израилевыми, и, следовательно, (так как он видел Господа после Его Страстей) он был компетентным свидетелем Его воскресения. А что касается Варнавы, то он был учеником до периода Страстей Господних. Ясно поэтому, что Павел и Варнава были апостолами, и однако же они были избраны и уполномочены церковью в Антиохии подобно тому, как Матфей был избран и уполномочен церковью в Иерусалиме.
Епископ – слово, образованное от греческого έπίσχοπος, обозначает надсмотрщика или надзирателя какого-либо дела, и в частности пастыря, и отсюда метафорически стало употребляться не только среди евреев, бывших первоначально пастушеским народом, но также и среди язычников для обозначения сана царя, или другого правителя, или вождя народа, все равно, правил ли он посредством законов или посредством учения. И таким образом, апостолы были первыми христианскими епископами, назначенными самим Христом, и в этом смысле апостольство Иуды названо (Деяния, 1, 2) его епископством. Впоследствии, когда были назначены старейшины в христианских церквах, на которых было возложено учением и советом руководить христианской паствой, то эти старейшины были также названы епископами. Тимофей был старейшиной (слово старейшина в Новом Завете обозначает как должность, так и возраст), и однако же он был также епископом, мало того, сам апостол Иоанн, любимый апостол нашего Господа, начинает свое Второе послание следующими словами: старец – избранной госпоже. Из всего этого видно, что епископ, пастырь, старейшина, доктор, то есть учитель, были в эпоху апостолов лишь различными наименованиями одной и той же должности. Ибо тогда в христианской церкви не было никакой принудительной власти, а лишь руководство учением и убеждением. Царство Божие должно было еще прийти в новом мире, так что ни в какой церкви не могло быть принудительной власти до тех пор, пока государство не признало христианской веры, следовательно, не было в церкви разнообразия властей, хотя было разнообразие должностей.
Кроме этих наставнических должностей в церкви, а именно апостолов, епископов, старейшин, пастырей и учителей, чье призвание было прокламировать Христа евреям и язычникам и направлять и учить тех, которые уверовали, мы не находим в Новом Завете никаких других должностей. Ибо под именем евангелистов и пророков обозначается не какая-нибудь должность, а различные дарования, благодаря которым те или другие люди были ценны для церкви, так, например, евангелисты были ценны тем, что они описывали жизнь и деяния нашего Спасителя. Такими евангелистами были апостолы Матфей и Иоанн, ученики Марк и Лука и всякий другой, писавший на ту же тему (как, например, апостолы Фома и Варнава, о которых говорится, что они писали на ту же тему, хотя церковь не получила книг, авторство которых приписывалось им). Пророки же были ценны тем, что обладали даром толковать Ветхий Завет, а иногда возвещением своих особых откровений церкви. Ибо ни эти дарования, ни способность говорить новыми языками, ни дар изгонять бесов или лечить другие болезни и вообще ничто, кроме правильного призвания и избрания на должность учителя, не давало основания быть должностным лицом в церкви.
Подобно тому как апостолы – Матфей, Павел и Варнава – не были назначены апостолами самим нашим Спасителем, а были избраны церковью, то есть собранием христиан, а именно Матфей иерусалимской церковью, а Павел и Варнава антиохийской церковью, точно так же были и пастыри в других городах избираемы церквами тех городов. Для доказательства этого посмотрим прежде всего, как апостол Павел поступает при рукоположении пресвитеров в тех городах, где он обратил людей в христианскую веру непосредственно после того, как он и Варнава получили апостольство. Мы читаем (Деяния, 14, 23), что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви. Это с первого взгляда может быть принято как доказательство того, что они сами избирали и уполномочивали. Однако если посмотрим текст греческого оригинала, то станет очевидным, что они уполномочивались и избирались собранием христиан в каждом городе. Ибо в греческом оригинале сказано: χειροτονήσαντες αύτοίς πρεσβυτέρους χατ’έχχλησίαν то есть рукоположив их старейшинами поднятием рук в каждом собрании. Но достаточно известно, что во всех тех городах должностные лица и чиновники избирались баллотировкой; и (так как обычно поднятие рук было признаком утвердительного голосования в отличие от отрицательного) назначить какое-нибудь должностное лицо в одном из этих городов означало лишь собрать вместе народ и избрать это должностное лицо вотумом большинства, причем этот вотум выражался поднятием рук, голосованием шарами, бобами или маленькими камнями, которые всякий человек клал в один из сосудов, назначенных для утвердительного или отрицательного вотума, ибо в разных городах были различные обычаи на этот счет. Таким образом своих пресвитеров избирало собрание. Апостолы были лишь председателями собрания, на обязанности которых лежало созвать собрание для таких выборов, объявить имена избранных и дать им свое благословение, называемое в наше время посвящением. И по этой причине те, которые были председателями собраний, а ими были (в отсутствие апостолов) пресвитеры, назывались προεστώτες, а по латыни antistites. Слово это означает главное лицо собрания, на чьей обязанности лежало подсчитывать голоса и объявить при этом, кто избран, а там, где голоса разделялись поровну, решать обсуждаемый вопрос прибавлением своего голоса, что является обязанностью председателя собрания. И (так как все церкви избирали своих пресвитеров одним и тем же способом) там, где употребляется слово поставить (как, например, к Титу 1, 5) ίνα χαταστήσης χατά πόλιν πρεσβυτέρους, для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров, то это следует понимать согласно вышеизложенному, а именно что Тит должен был созвать верующих и избрать им пресвитеров большинством голосов. Было бы странно, если бы жители города, где люди, может быть, никогда не видели должностного лица, избранного иначе, чем в собрании, став христианами, стали вдруг себе мыслить иной способ избрания своих учителей и руководителей, то есть своих пресвитеров (иначе называемых епископами), чем избрание большинством голосов, на которое указывает апостол Павел словом χειροτονήσαντες. Точно так же не было иного способа избрания епископов (до того как императоры сочли необходимым регулировать эти выборы в целях сохранения мира), как лишь собраниями христиан в каждом городе.
То же самое подтверждается продолжающейся и поныне практикой в отношении избрания епископов Рима. Ибо если епископ какого-нибудь места, покидая его, чтобы перенести свое пастырское служение в другое место, имел бы право назначить своего преемника в пастырском служении в том городе, откуда он уходит, то тем паче он имел бы право назначить своего преемника в последнем месте своего служения, где он умер. Однако же мы нигде не находим, чтобы какой-нибудь епископ Рима назначал своего преемника. Ибо на протяжении долгого периода римские епископы избирались народом, как это доказывает тот мятеж, который вспыхнул по поводу этих выборов, когда шла борьба между двумя кандидатами: Дамазом и Урсицином. Сила этого мятежа была так велика, что, по свидетельству Аммиана Марцеллина, префект Ювентий, оказавшись не в силах водворить мир среди борющихся партий, вынужден был уйти из города, и около ста убитых по этому случаю было найдено в самой церкви. И хотя в позднейшее время римские епископы избирались сперва всем римским духовенством, а затем кардиналами, однако никогда преемник не назначался своим предшественником. Если таким образом римские епископы никогда не претендовали на право назначать своих собственных преемников, то я считаю себя вправе заключить, что они без нового расширения своей власти не имели права назначать преемников другим епископам, а эту добавочную власть мог отнять у церкви и отдать им лишь тот, кто имел законную власть не только учить церковь, но и повелевать ей, а это мог быть лишь гражданский суверен.
Слово служитель, которому в греческом оригинале соответствует слово δίάχονος, означает человека, который добровольно заботится о делах другого человека. Служитель отличается от слуги лишь в том отношении, что слуги обязаны в силу своего положения исполнять все, что им ни прикажут, между тем как служители обязались лишь постольку, поскольку добровольно взяли на себя определенную задачу, и поэтому они ни к чему большему не обязаны. Таким образом, служителями были как те, которые учили слову Божию, так и те, которые заботились о мирских делах церкви, но они были служителями различных лиц. Ибо пастыри церкви, названные (Деяния, 6, 4) служителями слова, являются служителями Христа, чьим это слово является. Служение же дьякона, названное (2-й ст. той же главы) обслуживанием столов, есть служение церкви или собранию. Таким образом, о своем пастыре никто в отдельности и ни вся церковь не могли никогда сказать, что он является их служителем. О дьяконе же независимо от того, взял ли он на себя заботу о столах или распределять средства существования среди христиан, в то время когда христиане в каждом городе жили в общности имуществ или на средства доброхотных жертвователей, как это было в первое время, или он взял на себя заботу о молитвенном доме, или о доходах, или о других делах церкви – во всех этих случаях все собрание имело основание называть его своим служителем.
Дело в том, что основным занятием дьяконов было обслуживание собрания, хотя они не упускали случая также проповедовать Евангелие и распространять учение Христа, каждый в соответствии со своими дарованиями, как это делал святой Стефан, или проповедовать и крестить, как это делал Филипп. Ибо тот Филипп, который проповедовал евангелие в Самарии и крестил евнуха, был Филипп-дьякон, а не Филипп-апостол. Это видно из того, что, когда Филипп проповедовал в Самарии, апостолы были в Иерусалиме и, услышав, что самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые возложили руки на тех, кто был крещен, и те приняли Духа Святого (которого они раньше от крещения Филиппа не приняли). Ибо для сошествия Святого Духа необходимо было, чтобы их крещение было совершено и подтверждено служителем слова, а не служителем церкви. И поэтому для подтверждения крещения тех, которых крестил дьякон Филипп, апостолы послали из Иерусалима в Самарию из своей среды Петра и Иоанна, пожаловавших тем, которые были раньше только крещены, те духовные блага, которые были знамениями Святого Духа и которые в то время сопровождали всех истинно верующих. А в чем эти блага состояли, можно понять из следующих слов апостола Марка (гл. 16, 17): уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. Этими дарованиями Филипп не мог их наделить, а апостолы могли и (как видно из приведенной цитаты) действительно наделяли всякого человека, который искренно уверовал и был крещен служителем самого Христа. А что касается нашего времени, то или служители Христа не способны теперь наделять людей этой властью, или теперь имеется очень мало искренно верующих, или Христос имеет очень мало служителей.
Что первые дьяконы были избраны не апостолами, а собранием учеников, то есть христианами всякого сорта, видно из Деяний, 6, 3, где мы читаем, что, когда умножилось число учеников, двенадцать апостолов созвали последних и, заявивши, что нехорошо апостолам, оставив слово Божие, заботиться о столах, сказали следующее: выберите, братия, из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, которых мы поставим на эту службу. Отсюда видно, что, хотя апостолы объявили их избранными, однако избирало их собрание. И это еще более ясно видно из дальнейшего, где написано, что это предложение было угодно всему собранию, и оно выбрало семь человек. В эпоху Ветхого Завета одни только представители колена левитов допускались к священству и к другим низшим церковным должностям. Земля была разделена между другими коленами (за исключением левитов), которых, благодаря подразделению колена Иосифа на два подколена: Ефрема и Манассии, оставалось двенадцать. Левитам были назначены определенные города для жительства с предместьями для их скота. Вместо удела же левиты должны были получать десятину произведений земли их братьев. Содержание же священников составлялось из десятины этой десятины вместе с долей от жертвоприношений. Ибо Господь сказал Аарону (Числа, 18, 20): в земле их не будешь иметь наследства, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и наследство твое среди сынов израилевых. Ибо так как Бог был царем и избрал себе колено левитов в качестве своих государственных служителей, то Он назначил им в качестве содержания государственные доходы, то есть ту часть, которую Бог выделил для Себя самого. А эта часть состояла из десятин и жертвоприношений. И в этом смысле следует понимать слова Бога: Я твое наследство. И поэтому к левитам может быть с полным основанием применено название клира (слово χλήρος, означающее жребий или наследство). Это не значит, конечно, что они были в большей мере наследниками Царства Божия, чем все другие, а лишь то, что наследство Бога было их уделом. Но так как Бог сам был их царем в это время, а Моисей, Аарон и последующие первосвященники были Его наместниками, то отсюда явствует, что право на десятины и жертвоприношения было установлено гражданской властью.
После того как израильтяне отвергли Бога, потребовав себе царя, левиты продолжали пользоваться теми же доходами. Но их право на это производилось из того обстоятельства, что цари никогда не отняли его у них. Ибо государственные доходы были в распоряжении того, кто представлял лицо государства, и этим представителем был (до эпохи плена) царь. А также по возвращении из плена израильтяне по-прежнему платили свои десятины священникам. До этого времени, следовательно, доходы церкви определялись гражданским сувереном.
О средствах к жизни нашего Спасителя и Его апостолов мы читаем лишь, что они имели суму (которую носил Иуда Искариот), и что те апостолы, которые были рыбаками, иногда занимались своим промыслом, и что, когда наш Спаситель послал двенадцать апостолов проповедовать, Он запретил им носить в своих сумах золото, серебро и медь, ибо трудящийся достоин пропитания. Отсюда с вероятностью можно заключить, что их доходы не были в несоответствии с их занятием. Ибо их занятие состояло в том, чтобы даром давать, так как они даром получали, и их средства к жизни составлялись из доброхотных даяний тех, которые верили в благую весть, разносимую апостолами, о приходе Мессии и Спасителя. К этим даяниям мы можем прибавить благодарственные приношения тех, кого наш Спаситель исцелил от болезней (см. от Луки, 8, 2, 3).
После вознесения нашего Спасителя христиане в каждом городе жили в общности имуществ на деньги, вырученные от продажи земель и владений и положенные к йогам апостолов не по обязанности, а добровольно, ибо апостол Петр говорит Анании (Деяния, 5, 4): чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Эти слова показывают, что Анании незачем было утаивать из своих земель и денег, когда он клал их к ногам, так как он вообще не обязан был вносить что-нибудь, а на то была его добрая воля. И как во времена апостолов, так и в последующее время, до эпохи Константина Великого включительно, мы найдем, что доходы, епископов и пастырей христианской церкви составлялись из добровольных взносов тех, которые приняли их учение. О десятинах в течение этого периода еще нигде не говорится, но любовь христиан к своим пастырям была так велика в эпоху Константина и его сыновей, что Аммиан Марцеллин (описывающий мятеж во время борьбы между Дамазом и Урсидином за епископство) говорит, что было за что бороться, так как епископы того времени благодаря щедрости паствы и особенно знатных дам жили в роскоши, разъезжали в каретах и роскошествовали в пище и одежде.
Но тут может кто-нибудь спросить: разве пастыри церкви были тогда обязаны жить от добровольных пожертвований, как от милостыни? Ведь сказано (у апостола Павла 1-е Посл к Кор., 9, 7): какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? И дальше: разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвенник уберут долю от жертвенника? то есть содержанием им служит доля от того, что приносится в жертву. И затем он кончает следующими словами: так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Эти слова действительно говорят о том, что паства была обязана содержать своих пастырей церкви, но не о том, что пастыри могли определять размер и род своего содержания и быть своими собственными господами. Их содержание поэтому должно было необходимо или зависеть от благодарности или щедрости каждого отдельного представителя их паствы, или устанавливаться всем собранием. Однако всем собранием оно не могло быть установлено, ибо постановления собраний не были тогда законами. Поэтому доходы пастырей церкви, до того как императоры и гражданские суверены стали их регулировать законами, составлялись лишь из добровольных пожертвований. Служащие жертвеннику жили тем, что жертвовалось. Так и пастыри церкви могли брать то, что жертвовала им их паства, но не могли требовать того, что не жертвовалось. В каком суде могли бы эти пастыри, не имевшие трибуналов, предъявить свой иск? Или если бы они имели третейские суды в своей собственной среде, кто стал бы проводить их судебные решения в исполнение, раз они не имели власти в то время вооружать своих должностных лиц? Приходится поэтому полагать, что определенные доходы могли бы быть назначены пастырям церкви лишь всем собранием и лишь тогда, когда постановления этих собраний имели бы силу не только канонов, но и законов, и эти законы могли бы быть изданы лишь императорами, королями или другими гражданскими суверенами. Право десятины, установленное законом Моисея, не могло быть применено тогда к служителям Евангелия, так как Моисей и первосвященники были гражданскими суверенами народа под верховным владычеством Бога, чье Царство среди евреев было актуальным, между тем как Царство Божье через Христа должно еще прийти.
До сих пор было показано, кем являются пастыри церкви, каковы их полномочия (и именно что они были уполномочены проповедовать, учить, крестить и председательствовать в различных собраниях); в чем заключается церковное наказание (соответственно отлучение от церкви), а именно что в тех местах, где христианство было запрещено гражданскими законами, оно заключалось в том, что христиане должны были избегнуть общества отлученного, а в тех местах, где христианство было предписано гражданским законом, отлученный исключался из собраний христиан; кто избирал пастырей и служителей церкви (а именно собрание); кто посвящал и благословлял избранных (а именно пастырь); каковы были установленные доходы пастырей церкви (а именно что они составлялись лишь из того, что приносили им их собственные владения, из того, что они добывали трудами рук своих, и из добровольных пожертвований благочестивых и благодарных христиан). Нам остается теперь рассмотреть, какова роль в церкви тех лиц, которые, будучи гражданскими суверенами, приняли христианскую веру.
И прежде всего нам надлежит помнить, что право судить о том, какие учения благоприятствуют миру и должны быть пропагандированы среди подданных, во всех государствах неотделимо от гражданской верховной власти (как это уже было доказано в XVIII гл.), все равно, является ли ее носителем один человек или собрание людей. Ибо для всякого мало-мальски здравомыслящего человека очевидно, что человеческие деяния управляются теми мнениями, которые люди имеют о благе или зле, могущих проистекать для них из этих деяний, и что люди, у которых раз сложилось мнение, что их повиновение суверенной власти для них будет более вредно, чем неповиновение, не будут повиноваться законам и этим опрокинут государство и внесут хаос и гражданскую войну, для избежания которой всякое гражданское правление было установлено. И вот почему во всех государствах язычников суверены носили имя пастырей народа, так как ни один подданный в этих государствах не мог учить чему-либо народ без их разрешения и полномочий.
Нельзя думать, что короли-язычники лишаются этого права при своем обращении в веру Христа, который никогда не предписывал, чтобы уверовавшие в Него короли были низложены, то есть подчинены кому-нибудь помимо Него самого или (что то же самое) были лишены власти, необходимой для сохранения мира среди их подданных и защиты последних против иноземных врагов.
И поэтому короли-христиане остаются верховными пастырями их народа и имеют власть назначать каких им угодно пастырей, чтобы учить церковь, то есть учить народ, порученный их заботе.
Мало того, если даже предположим, что право избрания своих пастырей остается (как до обращения королей) за церковью, ибо так было в эпоху самих апостолов (как это уже было показано в этой главе), то и в этом случае это право будет принадлежать гражданскому суверену-христианину. Ибо, исповедуя христианство, суверен тем самым определяет, чему следует учить, а так как он суверен (что означает то же, что лицо, представляющее церковь), то избранные им учители избраны церковью. И если собрание христиан в христианском государстве избирает своего пастыря, то избирает последнего суверен, ибо избрание совершено по его полномочию, точно так же как когда город избирает своего старосту, то это избрание является актом того, кто имеет верховную власть. Ибо всякий совершенный акт является актом того, без согласия которого этот акт является недействительным. Вот почему, какие бы примеры ни приводились из истории относительно избрания пастырей: народом ли или клиром, эти примеры не являются доказательствами против права какого-либо гражданского суверена, ибо, кто бы ни избрал пастырей, он делал это на основании полномочий суверена.
Так как во всяком христианском государстве гражданский суверен является верховным пастырем, чьей заботе поручена вся паства его подданных, и, следовательно, все другие пастыри назначаются по его полномочию и от него получают свою власть учить и совершать всякое другое пастырское служение, то отсюда следует также, что только от гражданского суверена все другие пастыри получают свое право учить, проповедовать и совершать все другие функции, относящиеся к этой должности, и что они являются лишь служителями суверена в той же мере, в какой его служителями являются магистраты городов, судьи в судебных заседаниях и командиры армий, ибо гражданский суверен всегда является магистратом всего государства, судьей всех тяжб и командующим всем войском. И это не потому, что те, которые учат, являются подданными суверена, а потому, что его подданными являются те, которых следует учить. Ибо если мы предположим, что какой-нибудь христианский король перепоручает власть назначать пастырей в его владениях другому королю (как, например, многие христианские короли доверяют эту власть папе), то он этим не ставит пастыря над собой, а также верховного пастыря над своим народом, ибо это означало бы для такого короля лишить себя гражданской власти. В самом деле, так как власть суверена зависит от того мнения, которое люди имеют о своем долге по отношению к нему, и от их страха наказания в загробном мире, то в нашем случае власть короля зависела бы также от ловкости и лояльности пастырей, которые не менее, чем всякого другого сорта люди, подвержены не только честолюбию, но и невежеству. Так что там, где иностранец имеет право назначать учителей, то это право ему дано сувереном того государства, где эти учители должны учить. Христианские пастыри являются нашими учителями христианства, короли же являются отцами семейств, и они могут брать учителей для своих подданных по рекомендации иностранца, но не по его приказанию. И короли не обязаны допускать таких учителей, особенно в тех случаях, когда тот, кто их рекомендует, может извлечь явную и большую выгоду от их плохого обучения тех подданных, для которых они предназначены, и точно так же не обязаны они держать их дольше, чем это совместимо с благом государства, о каковом благе короли обязаны заботиться все время, пока они сохраняют какое-нибудь другое существенное право верховной власти.
Если поэтому кто-нибудь спросил бы пастыря при исполнении им обязанностей, как первосвященники и старейшины народа спросили нашего Спасителя (Матфей, 21, 23): какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть? – то единственным правильным ответом, который пастырь мог бы дать на этот вопрос, было бы сказать, что он это делает властью государства, данной ему королем или представляющим государство собранием.
Все пастыри, за исключением верховного, исправляют свои обязанности по праву, то есть по полномочию гражданского суверена, то есть jure civili (по гражданскому праву). Король же и всякий другой суверен исправляет свои обязанности верховного пастыря по непосредственному полномочию от Бога, то есть по божественному праву, или jure divino. Вот почему никто, кроме королей, не может вставить в свой титул (как признак их подвластности одному Богу) dei gratia rex и т. д. (Божьей милостью король). Епископы обязаны сказать в начале своих предписаний: милостью королевского величества епископ такой-то епархии – или, как гражданские служители: именем его величества. Ибо, когда они пишут divina providentia (Божьим промыслом), что означает то же, что и dei gratia (Божьей милостью), хотя выражено в завуалированной форме, они этим отрицают, что получили свою власть от гражданского государства, и лукаво сбрасывают с себя иго гражданского подданства, что противоречит интересам единства и защиты государства.
Но если всякий христианский суверен является верховным пастырем своих собственных подданных, то выходит, что он имеет также власть не только проповедовать (чего, может быть, никто не будет отрицать), но также крестить и совершать таинство Тайной вечери, освящать храмы и рукоположить пастырей на служение Богу, что большинство людей отрицает отчасти потому, что суверены обыкновенно не занимаются этим, а отчасти потому, что совершение таинств и посвящение лиц и мест для священных целей требует возложения рук таких людей, которые путем такого возложения рук были со времени апостолов преемственно назначены для подобного рода служения. Поэтому для доказательства того, что христианские короли имеют власть крестить и посвящать, я должен обосновать как то, почему суверены обычно не занимаются этим, так и то, каким образом им дано право делать это, если они хотят, без обычной церемонии возложения рук.
Никто не станет сомневаться в том, что король, искусный в знаниях, по тому же праву своего сана, по которому он уполномочивает других читать лекции в университете, может и сам читать их. Тем не менее так как забота об общих делах государства отнимает все его время, то не подходило бы ему заниматься этим специальным делом. Король мог бы также, если ему угодно было бы, сидеть в суде, слушать и решать всякого рода тяжбы по тому же праву, по которому он уполномочивает других делать это же самое, однако лежащая на нем обязанность командования и управления заставляет его быть непрерывно в шлеме и поручать служебные должности другим под его верховным руководством. Таким же образом и наш Спаситель (который, наверное, имел право крестить) никого не крестил Сам, а посылал Своих апостолов и учеников. Точно так же и апостол Павел, вынужденный проповедовать в различных и отдаленных местах, крестил немногих. Из всех коринфян он крестил лишь Криспа, Гана и Стефана. А причиной этого было то, что его основной обязанностью было проповедовать, из чего ясно, что выполнение более сложной обязанности (как, например, управление церковью) освобождает от выполнения меньшей обязанности. Причина, по которой христианские короли не крестят, очевидна и одинакова с той, по которой в наше время очень немногие бывают крещены епископами и еще меньше того папой.
А относительно возложения рук, насколько оно является необходимым условием права королей крестить и посвящать, мы можем сказать следующее. Возложение рук было древней общепринятой среди евреев церемонией, посредством которой обозначались и указывались лицо или какой-нибудь предмет, являвшиеся объектом человеческой молитвы, благословения, жертвоприношения, посвящения, осуждения или другого действия. Так, например, Иаков, благословляя детей Иосифа (Бытие, 46, 14), положил правую руку свою на голову Ефрему, меньшему, а левую на голову Манассии, первенцу. И это он сделал с намерением (хотя они так были подведены к нему Иосифом, что для выполнения своего намерения Иаков был вынужден простирать руки накрест), чтобы обозначить, кому он хочет дать большее благословение. Точно так же было повелено Аарону при принесении всесожжения возложить его руки на голову тельца и возложить его руки на голову овна. То же самое говорится в Книге Левит, 1, 4 и 8, 14. То же самое при назначении Моисеем Иисуса начальником сынов израилевых (Числа, 27, 23), при посвящении левитов (Числа, 8, 10), при осуждении совершившего богохульство (Левит, 24, 14). В последнем случае Бог повелел, чтобы все слышавшие положили руки на голову его и чтобы все общество побило его камнями. Почему же должны были положить только слышавшие, а не скорее священник, левит или какой-нибудь другой служитель правосудия, если не потому, что никто другой не был способен обозначить и демонстрировать перед глазами всего общества, кто именно совершил богохульство и заслуживает смерти. А при обозначении человека или какого-нибудь предмета руками для глаза ошибки менее возможны, чем при обозначении их наименованием для слуха. И эта церемония настолько строго соблюдалась, что при благословении всего собравшегося народа, что не могло быть сделано возложением рук, Аарон, однако, поднял руки свои, обратившись к народу, и благословил его. Мы читаем также о подобной церемонии у язычников при освящении храма, а именно что священник клал руку на какой-нибудь столб храма и держал ее так все время, пока он произносил слова освящения. В делах публичного богослужения, очевидно, считалось более естественным обозначить какую-нибудь индивидуальную вещь руками, чтобы удостоверить глаз, чем обозначать ее словами, удостоверяющими лишь ухо. Церемония эта поэтому не была новшеством во времена нашего Спасителя (см. Марк, 6, 23). В соответствии с этим древним обрядом апостолы и старейшины и самое собрание старейшин клали руки на тех, кого они назначали пастырями, и одновременно молились, чтобы на них снизошел Святой Дух. И эта церемония совершалась не однажды, а иногда несколько раз, по мере того как представлялся новый повод. Но цель была одна и та же, а именно точное и религиозное обозначение лица, назначенного или к пастырскому служению вообще, или для какой-нибудь специальной миссии; так, например, апостолы, помолившись, возложили руки на семь дьяконов (Деяния, 6, 6), что было сделано не для того, чтобы дать им Святой Дух (ибо Святого Духа, как видно из предыдущего, они были преисполнены до своего избрания), а чтобы обозначить их для указанного служения. А после того как дьякон Филипп обратил некоторых людей в Самарии, Петр и Иоанн отправились туда и возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. И это право возложения рук имел не только апостол, но и старейшина. Ибо апостол Павел говорит Тимофею: рук ни на кого не возлагай поспешно, то есть никого не определяй поспешно к пастырскому служению. В Первом послании к Тимофею, 4, 14, мы читаем, что все собрание старейшин возложило руки на Тимофея, но это следует так понимать, что это сделал кто-нибудь по поручению собрания, и вероятнее всего их προεστώς, или председатель, каковым, может быть, был сам апостол Павел. Ибо в своем Втором послании к Тимофею апостол Павел говорит ему: возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, из чего между прочим видно, что под Святым Духом подразумевается не третье лицо в божественной Троице, а дарования, необходимые для пастырского служения. Мы читаем также, что на апостола Павла были дважды возложены руки: один раз Ананием в Дамаске при крещении Павла, а второй раз в Антиохии, когда он впервые был послан проповедовать. Применение этой церемонии при назначении пастырей имело целью обозначить то лицо, которому давалось соответствующее право. Но если какой-нибудь христианин имел бы право учить еще до своего перехода в христианство, то его крещение, т. е. факт его перехода в христианство, не давало бы ему никакого нового права, а лишь побудило бы его проповедовать истинное учение, то есть правильно использовать свое право, и поэтому возложение рук было бы не нужно, так как для этого достаточно было бы одного крещения. Всякий же суверен имел власть еще до принятия им христианства учить и назначать учителей, и поэтому христианство не давало ему никакой новой власти, а лишь наставляло его на путь учить истине. И следовательно, (помимо возложения рук при крещении) суверены не нуждались в специальном возложении рук, которое уполномочивало бы их выполнять какую-нибудь часть пастырских функций, как крещение и посвящение. И хотя в эпоху Ветхого Завета, пока верховная власть находилась в руках первосвященника, только он один имел право посвящать, однако иначе обстояло дело, когда верховная власть перешла к царям. Ибо мы читаем (1-я Книга Царей, 8), что Соломон благословил народ, освятил храм и произнес ту публичную молитву, которая служит образцом для подобных молитв при освящении христианских церквей и часовен, из чего явствует, что он обладал не только правом церковного управления, но и правом совершать церковные функции.
Из этого объединения в лице христианских суверенов политических и церковных прав очевидно, что христианские суверены имеют над своими подданными всю ту власть, которая может быть дана человеку, с тем чтобы он управлял внешними деяниями людей как в области политики, так и в области религии, и что эти суверены могут издавать такие законы, какие они сами сочтут наиболее целесообразными для управления своими подданными, поскольку последние образуют государство, а также поскольку они образуют церковь, ибо как государство, так и церковь образуют одни и те же люди.
Если этим суверенам поэтому угодно, они могут (как это делают в настоящее время многие христианские короли) поручить управление своими подданными в делах религии папе, но тогда папа подвластен в этих вопросах им, и он выполняет это поручение на чужой территории jure civili, то есть именем гражданского суверена, а не jure divino, то есть именем Бога, и он может быть поэтому уволен от этой должности, когда суверен сочтет это необходимым для блага своих подданных. Точно так же, если суверенам угодно, они могут поручить заботу о религии одному верховному пастырю или собранию пастырей и дать им ту власть над церковью или одному над другими, какую они сочтут наиболее подходящей, и жаловать им по своему усмотрению титулы, как титулы епископов, священников или пресвитеров, и устанавливать для них источники доходов, будь то десятины или другие источники, какие им будет угодно, ибо все, что они делают в этом отношении, они делают по указаниям своей собственной совести и отвечают за это перед одним лишь Богом. Только гражданскому суверену принадлежит право назначать судей и толкователей по каноническому писанию, ибо только он один придает писанию силу закона. Точно так же только он один придает силу отлучениям, которыми пренебрегали бы, если бы они не сопровождались такими законами и наказаниями, которые способны смириться, упорных отступников и заставить их объединиться с остальной церковью. Коротко говоря, гражданский суверен имеет верховную власть во всех делах, как церковных, так и гражданских, поскольку дело касается действий и слов, ибо только они одни известны и могут быть предметом обвинения, и над тем, что не может быть предметом обвинения, нет судьи, кроме Бога, ведающего сердца. И эти права неотъемлемы от верховной власти как монархов, так и верховных собраний, ибо те, которые являются представителями христианского народа, являются представителями церкви, так как церковь и христианское государство – одно и то же.
Хотя то, что я сказал здесь и в других местах этой книги, достаточно ясно обосновывает верховную церковную власть христианских суверенов, однако так как общее притязание на эту власть римского папы было поддержано главным образом и, я думаю, так сильно, как только возможно, кардиналом Беллармином в Его полемическом сочинении «De Summo Pontifice» («О верховном священнике»), то я счел необходимым подвергнуть разбору по возможности кратко Его основания и силу Его рассуждения.
Из пяти книг, написанных им на указанную тему, первая содержит три вопроса. Первым разбирается вопрос о том, какая из форм правления – монархическая, аристократическая или демократическая – является наилучшей, причем автор приходит к тому заключению, что наилучшей не является ни одна из указанных, а лишь такая, которая смешана из всех этих трех. Вторым разбирается вопрос о том, какая из этих форм правления является наилучшей для церкви, причем автор высказывается за смешанную, но более приближающуюся к монархии. В-третьих, обсуждается вопрос о том, занимал ли апостол Петр в этой смешанной монархии место монарха. Что касается первого вопроса, то я уже достаточно доказал, что все правительства, которым люди обязаны повиноваться, являются простыми и абсолютными. В монархии верховная власть принадлежит лишь одному человеку, и все другие люди, имеющие какую-нибудь власть в государстве, имеют ее лишь по Его полномочию и пока ему угодно и осуществляют ее Его именем. В аристократии же и демократии имеется лишь одно верховное собрание с той же властью, которая в монархии принадлежит монарху и которая является не смешанной, а абсолютной верховной властью. А там, где известная форма правления уже установилась, не приходится рассуждать о том, какая из трех форм правления является наилучшей, а всегда следует предпочитать, поддерживать и считать наилучшей существующую, ибо делать что-нибудь, что может вести к ниспровержению существующей формы правления, противоречит как естественному закону, так и положительному божескому закону. Кроме того вопрос о том, какая форма правления является наилучшей, не имеет никакого отношения к власти пастыря (за исключением того случая, когда этот пастырь обладает верховной властью), ибо пастыри не призваны управлять людьми путем приказов, а лишь учить людей и убеждать их аргументами, предоставляя Своим слушателям решить, принимают они или отвергают преподанное им учение. Действительно, монархия, аристократия и демократия обозначают для нас три вида суверенов, а не три вида пастырей или, как мы можем сказать, три вида отцов семейств, а не три вида учителей для их детей.
И поэтому второе заключение относительно лучшей формы правления не имеет никакого отношения к вопросу о власти папы вне Его собственных владений, ибо во всех других государствах Его власть (если он вообще имеет какую-либо) есть лишь власть учителя, а не власть Отца семейства.
В качестве основного аргумента в пользу Его третьего заключения, а именно, что апостол Петр был монархом в церкви, он приводит место из апостола Матвея (гл. 16, 18, 19): ты – Петр, и на сем камне я создам церковь мою и т. д. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Однако при ближайшем рассмотрении это место доказывает лишь, что церковь Христа имеет Своим фундаментом один лишь догмат, а именно тот, который, будучи признан Петром от имени всех апостолов, дал повод нашему Спасителю произнести цитированные выше слова. Чтобы ясно понимать, о чем идет тут речь, мы должны принимать во внимание, что Спаситель самолично через Иоанна Крестителя и через Своих апостолов проповедовал лишь один тот догмат веры, а именно, что он есть Христос, так что все другие догматы веры являются догматами веры лишь постольку, поскольку они зиждутся на этом фундаменте. Первым начал Иоанн, проповедуя лишь: приблизилось Царство Небесное, затем проповедовал то же самое наш Спаситель. И в Заповеди, данной Иисусом Своим двенадцати апостолам, говорится о проповедовании лишь этого догмата. Это был основной догмат, т. е. фундамент веры церкви. Впоследствии, когда апостолы вернулись к Иисусу, он спросил их всех (Матвей 16, 13), а не одного лишь Петра, за кого люди почитают его, и апостолы ответили, что одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Тогда Иисус снова спросил их всех (не только Петра): а вы за кого почитаете меня? На это апостол Петр ответил (за них всех): ты Христос, сын Бога Живого, что является, как я сказал, основой всей церкви. Это дало повод нашему Спасителю сказать: на сем камне я создам церковь Мою. Из этого очевидно, что под краеугольным камнем церкви подразумевается основной догмат веры церкви. Но почему же (возразит кто-нибудь) наш Спаситель вставляет слово: ты – Петр? Если оригинал этого текста был бы дословно переведен, то легко было бы видеть основание указанной вставки. Мы должны принять во внимание, что апостол Симон имел прозвище Камень (что по-сирийски будет cephas, а по-гречески petros). Наш Спаситель поэтому после признания Петром основного догмата сказал, намекая на имя последнего, следующее: ты – Камень, и на этом Камне я создам церковь мою. Это все равно, как если бы он сказал: этот догмат, что я есмь Христос, есть основа всей той веры, которую Я требую от всех тех, кто должен стать членами моей церкви. Такой намек на имя собеседника не является необычной вещью в обиходной речи. Однако странной и темной выглядела бы речь нашего Спасителя, если бы он, намереваясь воздвигнуть свою церковь на личности апостола Петра, сказал бы: ты – Камень, и на сем Камне Я создам церковь Мою, когда следовало ясно и недвусмысленно сказать: на тебе Я создам церковь Мою, при этом обороте намек на имя Петра все еще сохранился бы.
А что касается следующих слов: Я дам тебе ключи Царства Небесного и т. д., то это не больше того, что наш Спаситель дал также остальным Своим ученикам (Матвей 18, 18): что что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Однако, как бы мы ни интерпретировали эти места, несомненно то, что пожалованная здесь власть принадлежит всем верховным пастырям, а такими являются все христианские гражданские суверены в их собственных территориях. И это в такой степени верно, что если бы апостол Петр или сам наш Спаситель склонил кого-нибудь из суверенов к тому, чтобы уверовать в него и признать Его царство, Он, однако, ввиду того что Его царство не от мира сего, предоставил бы верховную заботу об обращении Своих подданных одному лишь этому суверену, или же он должен был бы лишить Его верховной власти, неотделимой частью которой является право учить. И этим достаточно сказано в опровержение выводов первой книги Беллармина, где последний стремится доказать, что апостол Петр был универсальным монархом церкви, т. е. всех христиан мира.
Вторая книга содержит два заключения, а именно, что апостол Петр был епископом Рима и здесь умер и что римские папы являются Его преемниками. Оба эти положения оспаривались другими исследователями. Но предположим, что они оба верны. Однако если под римским епископом следует разуметь или монарха церкви, или верховного пастыря ее, то епископом был не Сильвестр, а Константин (который был первым императором-христианином). И подобно Константину, и все другие императоры-христиане были по праву епископами римской империи. Я говорю: римской империи, а не всего христианства. Ибо все другие христианские суверены имели то же право, как право, неотделимое от их верховной власти, в их различных территориях. И это является ответом на Его вторую книгу.
В третьей книге Беллармин обсуждает вопрос о том, является ли папа антихристом. Я с Своей стороны не вижу никаких доводов за то, чтобы папа был антихристом в том смысле, в каком Писание употребляет это слово, и не желаю я пользоваться аргументом от качества антихриста, чтобы оспаривать власть, которую осуществляет или осуществлял папа на территории другого монарха или государства.
Ясно, что пророки Ветхого Завета предсказывали, а евреи ждали прихода Мессии, т. е. Христа, который восстановил бы среди них Царство Божие, отвергнутое ими во время Самуила, когда они потребовали царя, как у прочих народов. Это ожидание подвергало евреев опасности поддаваться обману всех таких людей, которые обладали бы как достаточным честолюбием, чтобы пытаться приобрести это царство, так и достаточной ловкостью, чтобы обмануть народ кажущимися чудесами, ханжеством или правдоподобными речами и учением. Вот почему наш Спаситель и Его апостолы предостерегали людей против лжепророков и лжехристов. Лжехристами являются такие, которые, не будучи христами, выдают себя за таковых, подобно тому как, когда вследствие раскола в церкви выбирают двух пап, каждый называет другого аптипапой или лжепапой. Поэтому антихрист в собственном значении слова имеет два существенных признака: один, что он не признает Иисуса Христа, а другой, что он признает себя Христом. Первый признак указан апостолом Иоанном в Его первом послании 4, 3, а второй установлен словами нашего Спасителя (Матвей 24, 5). И поэтому антихрист должен быть лжехристом, т. е. одним из тех, которые будут выдавать себя за Христа.
И из этих двух признаков, а именно непризнания Иисуса Христа и выдавания себя за Христа, следует, что антихрист должен также быть противником истинного Христа Иисуса, что является другим обычным значением слова «антихрист». Но из этих многих антихристов имеется один ὁ’Ανίχριστος, определенный антихрист как определенное лицо, а не неопределенно некий антихрист. Однако, ввиду того что римский папа не выдает себя за Христа и не отрицает, что Иисус есть Христос, я не понимаю, как можно Его называть антихристом, ведь под этим словом не подразумевается человек, ложно выдающий себя за вице-короля или универсального наместника Христа, а лишь тот, кто выдает себя за Христа. Имеется еще указание на время, в которое должен объявиться этот антихрист, как, например (Матвей 24, 5), что тогда этот мерзкий опустошитель, реченный через пророка Даниила, будет стоять на святом месте, и будет великая скорбь, какой не было доныне и не будет, так что, если бы не сократились те дни, не спасалась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни (ст. 22). Но эта скорбь еще не пришла, ибо непосредственно за этой скорбью должны померкнуть солнце и луна, и звезды должны спадать с неба и поколебаться небеса, и должен прийти снова на облаках со славой наш Спаситель. Следовательно, антихрист еще не пришел, между тем как многие папы уже приходили и уходили. Правда, присваивая себе право давать законы всем христианским королям, папа узурпирует царство мира сего, чего Христос не брал на себя. Однако папа это делает не как Христа, а для Христа, что не является признаком антихриста.
В четвертой книге Беллармин выставляет три положения в доказательство того, что папа является верховным судьей во всех вопросах веры и нравственности (что означает то же, что сказать, будто он является абсолютным монархом всех христиан мира). Первое положение: решения папы непогрешимы; второе положение: папа имеет власть издавать законы и наказывать тех, кто их не соблюдает; третье положение: наш Спаситель перенес всю церковную юрисдикцию на папу римского.
В пользу непогрешимости суждений папы Беллармин цитирует Писания, прежде всего от Луки 22, 31: Симон! Симон! Сатана просил, что бы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудел а вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Согласно толкованию Беллармина, это место будто бы говорит за то, что Христос дал здесь Симону-Петру две привилегии: одну – что ни Его вера, ни вера кого-либо из Его преемников не оскудеет; другую – что ни он, ни кто-либо из Его преемников никогда не вынесут ошибочного решения по вопросам веры или нравственности, а также, что никто из Его преемников не вынесет по этим вопросам решения, противоречащего решению предыдущего папы – что является странным и натянутым толкованием. Однако тот, кто внимательно прочтет эту главу, найдет, что нет другого места во всем Писании, которое бы так говорило против власти папы, как именно это место. Первосвященники и книжники искали погубить нашего Спасителя в праздник опресноков, и Иуда уже носился с мыслью о предательстве. И вот настал день, когда надлежало заколоть пасхального агнца, и наш Спаситель ел пасху вместе со Своими апостолами, которым он сказал, что он уже не будет есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем, и одновременно он сказал им, что один из них предаст Его. И они начали спрашивать, кто бы из них был, который это сделает, и одновременно (ввиду того что следующую пасху их учитель намеревался справлять, когда он будет царем) начался между ними спор, кто тогда должен первенствовать. Наш Спаситель поэтому сказал им, что цари народов господствуют над Своими подданными и называются именем, означающим (по-древнееврейски) благодетелей, но он не может быть таким к ним, и они должны стараться служить друг другу. Дальше он продолжает: я завещаю вам царство, но такое, какое завещал мне отец мой, царство, которое я должен теперь купить своей кровью и которым я не должен владеть до моего второго пришествия; тогда вы будете есть и пить за трапезой моей и сидеть на престолах – судить двенадцать колен Израилевых. И после этого, обращаясь к апостолу Петру, он говорит: Симон! Симон! сатана ищет, внушая вам желание господствовать в настоящем; ослабить вашу веру в будущее, но я молился о тебе, чтобы твоя вера не оскудела. Поэтому ты некогда, обратившись (заметьте это) и поняв, что мое царство не от мир а сего, утверди в этой вере твоих братьев. На это апостол Петр ответил (как человек, который не ждет власти в этом мире): Господи! я с тобой готов и в темницу и на смерть идти. Из всего этого очевидно, что апостолу Петру не только не было дано никакого права юрисдикции в этом мире, но, наоборот, ему было дано поручение учить других апостолов, что они также не должны иметь такого права. А что касается непогрешимости окончательных приговоров апостола Петра в вопросах веры, то на основании приведенного текста можно лишь вывести, что Петр и впредь сохранит свою веру в этом пункте, а именно, что Христос снова придет и будет обладать царством в день суда, причем этот дар не был дан этим текстом всем Его преемникам, ибо мы видим, что они претендуют на царство в существующем ныне мире.
Второе место, на которое ссылается Беллармин, это Матвей 16: Ты – Петр, и на сем камне Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, чем лишь доказано (как я уже показал в этой главе), что врата ада не одолеют признания Петра, давшего повод к этой речи, а именно признания, что Иисус есть Христос, сын Бога.
Третья ссылка от Иоанна 21, 16, 17: паси овец моих – содержит лишь поручение учить, и, если мы примем, что все остальные апостолы подразумеваются под словом овцы, тогда это – верховное право учить. Но это было для того времени, когда еще не было христианских суверенов, уже имевших это верховное право. Однако я уже доказал, что христианские суверены являются в Своих собственных территориях верховными пастырями, установленными для этого в силу своего крещения, хотя и без специального возложения рук. Ибо так как возложение рук было церемонией, имевшей Своей целью обозначить то лицо, которое уполномочено учить, то оно не нужно, когда право учить чему ему угодно дано известному лицу тем, что оно облечено абсолютной властью над Своими подданными. В самом деле, я уже раньше показал, что суверены в силу своего сана являются верховными учителями, и поэтому они (Своим крещением) обязываются учить христианству. И если они терпят, чтобы другие учили их народ, то они это делают, рискуя Своей собственной душой. Ибо именно от главы семейства Бог будет требовать отчета в том, как он наставлял Своих детей и слуг. Именно об Аврааме, а не о Его наемнике, Бог говорит (Бытие 18, 19): я знаю, что он заповедает детям Своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд.
Четвертое место, на которое ссылается Беллармин, это – Исход 28, 30: на наперсник судный возложи урим и туммим. Последние слова, говорит Беллармин, переводятся в септуагинте (греческом переводе Библии) δΎλωσιν χαί ολθεαν, т. е. очевидность и истина. И отсюда он заключает, что Бог дал первосвященнику очевидность и истину (что равно почти непогрешимости). Но все равно, говорит ли это место за то, что священнику даны были сама очевидность и истина, или это место является лишь напоминанием ему о том, что он должен точно информироваться и праведно судить, – все же, раз это дано первосвященнику, значит это дано гражданскому суверену. Ибо именно гражданским сувереном под верховным владычеством Бога был первосвященник в государстве Израиля. Следовательно, это место является аргументом в пользу того, что даром очевидности и истины, т. е. верховной властью над Своими подданными в церковных делах, обладают гражданские суверены, т. е. это место говорит против притязаний папы на эту власть. Таким образом мы рассмотрели все те тексты, которые Беллармин приводит в пользу непогрешимости суждений папы в вопросах веры. В пользу непогрешимости суждений папы в вопросах нравственности Беллармин ссылается на один текст, а именно на место из Иоанна 11, 13: когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, где (говорит Беллармин) под всякой истиной подразумевается по крайней мере всякая истина, необходимая для спасения. Но с этим ограничением он приписывает папе не больше непогрешимости, чем любому человеку, исповедующему христианство и не заслуживающему осуждения. Ибо если человек ошибается в каком-нибудь пункте, не ошибаться в котором является необходимым условием спасения, то он не может спастись, так как необходимым условием спасения является лишь то, без чего невозможно спастись. Каковы эти пункты, это я выясню на основании Писания в следующей главе. Здесь я скажу лишь то, что если мы и допустили бы, что папа абсолютно не может учить чему-нибудь ошибочному, из этого еще не следовало бы, что это дает ему право юрисдикции во владениях другого монарха, разве только мы полагали бы, что человек обязан по совести поручать всякое дело лучшему мастеру даже и в том случае, когда он уже предварительно обещал эту работу другому мастеру.
Помимо ссылок на тексты Беллармин аргументирует от разума следующим образом. Если папа мог бы ошибаться в том, что необходимо для спасения, то это значило бы, что Христос недостаточно позаботился о спасении церкви, ибо он заповедал церкви следовать руководству папы. Однако этот довод был бы убедителен лишь в том случае, если бы он показал, когда и где Христос заповедал это или вообще упоминает о папе. В самом деле, если бы мы даже допустили... что все, что было дано апостолу Петру, дано папе, нельзя, однако, считать закономерным повиновение папе в тех случаях, когда повеления последнего противоречат постановлениям законного суверена повинующегося, так как в Писании никому не заповедано повиноваться апостолу Петру.
Наконец ни церковь не объявила, что папа является гражданским сувереном всех христиан мира, ни сам папа не провозгласил себя таковым, и поэтому не все христиане обязаны признавать Его юрисдикцию в вопросах нравственности. Ибо гражданская верховная власть и высшая юрисдикция по вопросам нравственного поведения суть одно и то же. А творцы гражданских законов не только объявляют, но и устанавливают то, что закономерно, и то, что незакономерно в человеческих действиях. Ибо правильность и неправильность человеческих нравов зависят исключительно от того, соответствуют ли они или не соответствуют закону суверена. И поэтому, когда папа предъявляет притязание на верховенство в вопросах нравственности, он учит людей не повиноваться их гражданским суверенам, что является ошибочным учением, противоречащим многим переданным нам в Писании правилам нашего Спасителя и Его апостолов.
В доказательство того, что папа имеет власть делать законы, Беллармин ссылается на многие места. Прежде всего на Второзаконие 17, 12: а кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении перед Господом Богом твоим, или судьи, тот должен умереть, – и так истреби зло от Израиля. В ответ на это мы должны напомнить, что первосвященник (вслед и непосредственно за Богом) был гражданским сувереном, и все судьи должны были быть установлены им. Цитированные слова поэтому имеют следующий смысл: человек, который поступит так дерзко, что не послушает гражданского суверена, который будет в те дни, или кто нибудь из Его чиновников при исполнении Его обязанностей, – этот человек должен умереть и т. д., что говорит определенно в пользу гражданской верховной власти против всемирной власти папы.
Во-вторых, он ссылается на Матвея 16: и что свяжешь и т. п., причем Беллармин это связывание толкует в том смысле, как говорится (Матвей 23, 4) о книжниках и фарисеях: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, и под этими словами (говорит он) подразумевается создание законов, и отсюда он заключает, что папа может издавать законы. Но это место тоже говорит в пользу законодательной власти гражданских суверенов, ибо книжники и фарисеи сидели на моисеевом седалище, а Моисей непосредственно под Богом был сувереном народа израильского. И поэтому наш Спаситель заповедал делать все то, что они прикажут, но не все то, что они будут делать, т. е. повиноваться их законам, но не подражать их делам.
Третье место, на которое ссылается Беллармин, это Иоанн 21, 16: паси овец моих. Но это не вручение законодательной власти, а лишь повеление учить. Составлять законы есть дело главы семьи, который выбирает домашнего священника по своему усмотрению, точно так же как по своему усмотрению он выбирает учителя для Своих детей.
Четвертое место, на которое Беллармин ссылается, а именно Иоанн 20, 21, говорит прямо против него. Ибо там сказано: как послал меня отец, так и я посылаю вас. Но наш Спаситель был послан, чтобы искупить (своей смертью) грехи тех, которые уверуют в него, и Своей проповедью и проповедью Своих апостолов приготовить верующих к вступлению в Царство Божие, о котором он сам говорит, что оно не от мира сего, и о будущем пришествии которого он учил нас молиться, хотя отказывался говорить Своим апостолам, когда оно придет, и по пришествии которого двенадцать апостолов будут сидеть на двенадцати тронах (каждый из которых, может быть, будет так же высок, как трон апостола Петра), чтобы судить двенадцать колен Израилевых. Так как Бог Отец послал нашего Спасителя не для того, чтобы издавать законы в существующем мире, мы можем из приведенного текста заключить, что наш Спаситель послал апостола Петра точно так же не для того, чтобы издавать законы, а чтобы убедить людей ждать с твердой верой Его второго пришествия, а в промежуточное время, если они подданные, повиноваться Своим суверенам, а если они монархи, верить самим и всеми имеющимися в их руках средствами побудить к тому же Своих подданных; это является обязанностью епископа. Поэтому это место в противоположность тому, что хочет доказать кардинал Беллармин, является наиболее сильным доводом в пользу объединения верховной церковной с верховной гражданской властью.
Пятая ссылка – это Деяния 15, 28: угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда. Слова возлагать бремя кардинал Беллармин приводит как доказательство в пользу того, что апостолы обладали законодательной властью. Однако кто из читавших этот текст может утверждать, что употребляемый здесь апостолами способ выражения не может быть употреблен так же хорошо при даче совета, как и при составлении закона? Стиль закона: мы приказываем, но мы считаем за благо есть обычный стиль тех, кто дает лишь совет. И те, которые дают совет, возлагают бремя, хотя это бремя является условным, т. е. те, которым этот совет дается, берут на себя это бремя лишь в том случае, если они хотят достигнуть Своих целей. И таковым именно является бремя воздержания от удавленины и блуда, именно не абсолютным, а рекомендованным на тот случай, если те, которым это советуется, не желают грешить. Я раньше показал (гл. XXV), что закон тем отличается от совета, что основанием для закона является намерение и благо того, кто Его предписывает, между тем как основанием для совета является намерение и благо того, кому этот совет дается. В нашем же случае апостолы ставят Своей целью не собственное благо, а благо обращенных язычников, именно их спасение. Ибо апостолы получат свою награду за приложенные ими усилия в наставлении обращенных язычников независимо от того, послушаются ли последние этих наставлений или нет. Таким образом, постановления совета апостолов были не законами, а советами.
Шестое место, на которое ссылается Беллармин, – это Послание к римлянам 13: всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога. Под этими властями, говорит Беллармин, подразумеваются не только мирские князья но и князья церкви. На это я отвечаю прежде всего, что князьями церкви являются лишь те, которые являются одновременно и гражданскими суверенами, причем их церковная власть не выходит за пределы их гражданской верховной власти. Вне же этих пределов они могут считаться учителями, но не могут считаться князьями. Ибо если апостол полагал бы, что мы должны быть покорны как нашим князьям, так и папе, то он учил бы нас чему-то, что Христос сам объявил невозможным, а именно служить двум Господам. И хотя апостол в другом месте говорит: я пишу это отсутствуя, дабы, присутствуя, не прибегнуть к мерам строгости согласно власти, которую дал мне Господь, то это не значит, что он претендует на власть присуждать кого-нибудь к смертной казни, к тюремному заключению, к изгнанию, к битию кнутом или к денежному штрафу, каковые меры являются наказаниями. Под мерами строгости, о которых говорится в приведенной цитате, может подразумеваться лишь отлучение от церкви, которое (без содействия гражданской власти) сводится лишь к тому, что верующие избегают общества отлученного и имеют с ним не больше дела, чем с язычником и мытарем. И во многих случаях такое отлучение могло грозить большими бедствиями отлучающему, чем отлученному.
Седьмая ссылка Беллармина – это Первое Послание к кор. 4, 21 с жезлом прийти к вам или с любовью и Духом кротости. Но и здесь под жезлом не подразумевается власть должностного лица наказывать преступников, а лишь право отлучения от церкви, которое по Своей природе не является наказанием, а лишь возвещением наказания, которое наложит Христос, когда он будет в обладании Своим царством в день суда. Да и тогда оно, собственно, не будет наказанием в собственном смысле, какому подвергается подданный за нарушение закона, а местью, которой подвергается враг или мятежник, отрицающий право нашего Спасителя на царство. Таким образом, и это место не доказывает что епископ, не являющийся одновременно гражданским сувереном, обладает законодательной властью.
Восьмое место, на которое ссылается Беллармин, это Послание к Тимофею 3, 2: епископ должен быть одной жены муж, бдителен, трезв, что является, говорит Беллармин, законом. Я полагал, что никто не мог создавать законы для церкви, кроме ее монарха, апостола Петра. Но если мы даже допустим, что это правило было составлено властью апостола Петра, то я все же не вижу основания, почему называть это правило предпочтительнее законом, чем советом, принимая во внимание, что Тимофей был не подданным, а учеником апостола Павла, а паства, порученная заботам Тимофея, состояла не из подданных апостола, а из Его учеников в школе Христа. Если все правила, которые апостол Павел преподает Тимофею, являются законами, то почему также не считать законом наставление: впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего. И почему также не считать законами правила, предписываемые хорошими врачами? Однако не императивная форма выражения делает какое-нибудь правило законом, а лишь абсолютная покорность того лица, которому это правило адресовано.
Точно так же и приводимое Беллармином девятое место из того же послания к Тимофею 5, 19: обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях, является не законом, а мудрым правилом.
Десятая цитата Беллармина взята из Евангелия от Луки 10, 16: слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня отвергает. Нет никакого сомнения в том, что отвергающий совет тех, которые были посланы Христом, отвергает этим совет самого Христа. Однако, кто в наше время является посланным Христа, если не те, кто назначен пастырями законной властью? А кто является законно назначенным, если он не назначен верховным пастырем? А кто же, будучи назначен в христианском государстве верховным пастырем, не является назначенным властью суверена этого государства? Из этого места поэтому следует, что тот, кто слушается своего христианского суверена, слушается Христа, а тот, кто отвергает учение, поощряемое Его христианским королем, отвергает учение Христа (т. е. следует обратное тому, что намерен доказать на основании этой цитаты Беллармин). Но все это не имеет ничего общего с законом. Более того, если христианский король выступает в роли пастыря и учителя Своих подданных, он этим не делает Своих учений законами. он не может обязать людей верить, хотя как гражданский суверен он может создать законы, соответствующие Его учению, и эти законы могут обязать людей к определенным действиям, а иногда и к таким, которые люди без этих законов не совершали бы и которые суверен не должен был бы предписать. Когда такие действия предписаны, они являются законами, а те внешние действия, которые совершаются из повиновения этим законам без внутреннего одобрения, являются действиями суверена, а не подданного, являющегося в этом случае простым инструментом, лишенным всякого собственного побуждения и совершающим свои действия только потому, что Бог заповедал повиноваться законам.
Одиннадцатым доводом Беллармина является всякое место, где апостол свой совет облекает в форму, в которой люди привыкли выражать приказание, или где апостол обозначает следование Его совету словом «повиновение». Поэтому прежде всего цитируется 1-е Послание к Кор. 11, 2: хвалю вас, что вы держите мои правила так, как я передал вам. В греческом оригинале сказано: хвалю вас, что вы держите то, что я переда вам так, как я передал вам, что далеко не обозначает, что эти правила были законами или чем-либо иным, кроме добрых советов. А место из Первого Послания к фессалоникийцам 4, 2: вы знаете, какие мы дали вам Заповеди, которым в греческом тексте соответствуют слова παραγγελίας εδώχαμεν, что равнозначительно παρεδώχαμεν, что мы передали вам, так же как и вышецитированный текст не доказывает, что предания апостолов были чем-либо иным, как добрыми советами, хотя в восьмом стихе сказано: непокорный непокорен не человеку, но Богу. Ибо наш Спаситель пришел сам не для того, чтобы судить, т. е. не для того, чтобы быть царем в этом мире, а чтобы пожертвовать собой за грешников и оставить учителей в Своей церкви, которые вели бы, но не таскали бы людей к Христу, не приемлющему никогда вынужденных действий (к которым только и приводят законы), а лишь внутреннее обращение сердца. Последнее же производится не законом, а советом и учением.
Дальше кардинал Беллармин цитирует Второе Послание к фессалоникийцам 3, 14: если же кто не будет повиноваться словам нашим всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, где он из слова повиноваться делает заключение, что это послание было законом для фессалоникийцев. Послания императоров были в самом деле законами. Если поэтому послание апостола Павла было бы также законом, то фессалоникийцы должны были бы повиноваться двум Господам. Однако слову повиновение соответствует в греческом оригинале слово ὑπαχούει, означающее послушать или осуществлять, что применимо не только к тому, что приказано человеком, имеющим право наказывать, но также и к тому, что дано нам в качестве совета для нашего собственного блага. Вот почему апостол Павел не говорит, что неповинующегося следует убить, или бить, или заключить в тюрьму, или подвергнуть денежному штрафу, каковые меры законодатель мог бы принять, а приказывает лишь не сообщаться с ним, чтобы устыдить его. Из этого видно, что христианам внушала страх не власть апостола, а Его репутация среди верных. Последняя ссылка Беллармина – это Послание к евреям 13, 17: повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны; ибо они неусыпно пекутся о душах ваших как обязанные дать отчет. Но и здесь под повиновением подразумевается следование их советам, ибо как основание для нашего повиновения указываются не воля и приказание наших пастырей, а наше собственное благо, так как эти пастыри пекутся о спасении нашей души, а не об увеличении их собственного могущества и собственной власти. Если бы тут подразумевалось, что все, чему пастыри учат, является законом, тогда законодательную власть имел бы не только папа, но каждый пастырь в своем приходе. Кроме того, те, которые обязаны повиноваться Своим пастырям, не имеют права подвергнуть испытанию их приказания. Что же мы тогда скажем по поводу правила, преподанного нам апостолом Иоанном (Первое Послание 4, 1): не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков по явилось в мире? Ясно следовательно, что мы можем оспаривать учение наших пастырей, но никто не может оспаривать закона. Что постановления гражданских суверенов являются законами, в этом все согласны, и если кто-нибудь, помимо суверена, мог бы составлять законы, то всякое государство, а следовательно, и всякий мир и правосудие перестали бы существовать, что противоречило бы всякому закону, как божескому, так и человеческому. Поэтому ни из этого места, ни из какого-нибудь другого места Писания нельзя почерпнуть доказательства в пользу того, будто постановления папы имеют силу закона и там, где он не обладает гражданской верховной властью.
Последнее положение, которое Беллармин старается доказать, заключается в том, что наш Спаситель Христос поручил церковную юрисдикцию непосредственно одному лишь папе. Этим положением Беллармин стремится отстоять верховенство папы не против христианских монархов, а против других епископов. Во-первых, говорит он, является бесспорным, что юрисдикция епископов, по крайней мере в общем, есть de jure divino, т. е. по божественному праву, в доказательство чего он цитирует слова апостола Павла в Послании к ефесянам 4, 11, где он говорит, что после своего восшествия на небо Христос дал благодать людям и поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И отсюда Беллармин заключает, что епископы действительно имеют свою юрисдикцию по божественному праву, но он не желает признать, что они имеют это право непосредственно от Бога, а думает, что они получают Его через папу. Однако если говорится о человеке, что он имеет свою юрисдикцию de jure divino, но не непосредственно, то есть ли в христианском государстве какая-нибудь законная юрисдикция, хотя бы и гражданская, которая не была бы также de jure divino? Ибо христианские короли имеют свою гражданскую власть непосредственно от Бога, а подчиненные им магистраты выполняют свои различные функции в силу данных им суверенами полномочий. Следовательно, все, что эти магистраты делают, не в меньшей степени является de jure divino mediato (по опосредственному божественному праву), чем то, что делает епископ в силу назначения Его папой. Всякая законная власть есть от Бога, непосредственно от Бога – власть верховного правителя, а посредственно – власть тех, которые уполномочены этим верховным правителем. Таким образом, или Беллармин должен признать, что всякий констебль в государстве занимает свою должность по божественному праву, или же он не должен думать, что какой бы то ни был епископ, кроме самого папы, занимает свою должность по божественному праву. Однако если речь идет не о тех местах, где папа имеет гражданскую верховную власть, то весь этот спор о том, предоставил ли Христос юрисдикцию одному лишь папе или кроме него также и всем другим епископам, является спором de lanа caprina (о козьей шерсти, т. е. о мелочах или впустую). Ибо никто из них не имеет (там, где они не являются суверенами) никакой юрисдикции. В самом деле, юрисдикция есть право слушать и решать тяжбы между человеком и человеком, и это право может принадлежать лишь тому, кто имеет власть предписывать правила насчет того, что правомерно и что неправомерно, т. е. составлять законы и мечом правосудия принуждать людей подчиняться Его решениям, вынесенным им самим или назначенными им для этого судьями, а такой власти не имеет законным образом никто другой, помимо гражданского суверена.
Поэтому когда Беллармин ссылается на шестую главу Евангелия от Луки, где говорится, что наш Спаситель созвал Своих учеников и выбрал из них двенадцать человек, которых он назвал апостолами, то он этим доказывает, что Христос избрал Своих апостолов (всех, за исключением Матвея, Павла и Варнавы) и уполномочил их и приказал им проповедовать, но не судить и решать тяжбы между человеком и человеком. Ибо это – право, от которого Христос сам отказался, сказав: кто сделал меня судьей или делителем между вами? И в другом месте: царство мое не от мира сего. Но о том, кто не имеет власти слушать и решать тяжбы между человеком и человеком, нельзя сказать, что он имеет какую бы то ни было юрисдикцию. И тем не менее это не исключает того, что наш Спаситель дал им право проповедовать и крестить во всех частях мира, если только это им не запрещалось их собственными законными суверенами. Ибо и сам Христос и Его апостолы ясно заповедали нам во многих местах во всем повиноваться нашим суверенам.
Те аргументы, которыми Беллармин пытается доказать, что епископы получают свою юрисдикцию от папы, бьют мимо цели (ввиду того что сам папа не обладает правом юрисдикции во владениях других монархов). Однако так как все Его ссылки доказывают, наоборот, что все епископы, поскольку они обладают правом юрисдикции, получают это право от Своих гражданских суверенов, то я не премину процитировать их здесь.
Первый аргумент – это место из Чисел 11, где говорится, что, когда Моисей оказался не в силах один нести все бремя управления делами народа израильского, Бог велел ему избрать семьдесят старейшин и взял часть от духа Моисея, чтобы дать ее тем семидесяти старейшинам. Беллармин говорит, что это место не следует понимать в том смысле, будто бы Бог ослабил этим Дух Моисея, ибо это не облегчило бы Его бремени, а это следует понимать лишь так, что эти семьдесят старейшин получили свою власть от Моисея. И это толкование Беллармина является правильным и остроумным. Но так как Моисей имел тогда всю полноту верховной власти в государстве евреев, то этим ясно обозначено, что старейшины получили свою власть от гражданского суверена. Таким образом, это место доказывает, что во всяком христианском государстве епископы имеют свою власть от гражданского суверена, а от папы лишь на Его собственной территории, а не на территории чужого государства. Второй аргумент Беллармин выводит из природы монархии. В монархии, говорит он, вся власть сосредоточена в одном человеке, а все остальные имеют свою власть от него. Церковь же управляется монархически. Этот аргумент имеет силу также для христианских монархов, которые являются действительными монархами своего народа, т. е. их собственной церкви (ибо церковь и христианский народ одно и то же), между тем как власть папы, хотя бы это был апостол Петр, не является правительственной, а лишь наставнической, так как Господь принимает не вынужденное, а лишь добровольное повиновение.
Третьим аргументом служат Беллармину слова св. Киприана, назвавшего седалище апостола Петра истоком, источником, корнем, солнцем, от которого производится власть епископов. Однако по естественному праву (которое является лучшим принципом правомерности и неправомерности, чем слова какого-нибудь учителя церкви, который является лишь человеком) гражданский суверен во всяком государстве является истоком, источником, корнем и солнцем, от которого производится всякая юрисдикция. Юрисдикция епископов поэтому имеет Своим источником гражданского суверена.
Четвертым аргументом служит Беллармину факт неравенства юрисдикции епископов. Ибо, говорит он, если бы Бог дал им это право юрисдикции непосредственно, то, дав им одинаковый ранг, он дал бы им также одинаковую юрисдикцию. Однако мы видим, что некоторые епископы являются епископами лишь одного города, другие сотни городов, а иные многих провинций, – различие, которое не было установлено Богом. Юрисдикция епископов поэтому не от Бога, а от человека, и один имеет более обширную, другой менее обширную юрисдикцию в зависимости от усмотрения князя церкви. Этот аргумент имел бы силу, если предварительно было бы доказано, что папа имел абсолютную юрисдикцию над всеми христианами. Однако ввиду того что это не было доказано и что доподлинно известно, что обширная юрисдикция папы была дана ему теми, которые имели ее, именно римскими императорами (ибо константинопольский патриарх на основании того же титула, именно на основании того, что он является епископом столицы и резиденции императора, требовал для себя равных прав с папой), то отсюда следует, что все другие епископы имеют свою юрисдикцию от суверенов той страны, где они ее осуществляют. И подобно тому как епископы по этой причине имеют свою власть не jure divino, точно так же не jure divino имеет свою власть и папа, за исключением той страны, в которой он является также и гражданским сувереном.
В качестве пятого аргумента Беллармин выдвигает следующее положение: если бы епископы имел и свою юрисдикцию непосредственно от Бога, то папа не мог бы лишить их ее, ибо папа не может делать ничего, что шло бы вразрез с божественным установлением. Это положение правильно и хорошо обосновано. Однако, говорит он, папа имеет право это делать и делает. С этим тоже можно согласиться, поскольку дело касается собственных владений папы или владений какого-либо другого монарха, предоставившего папе это право, но нельзя согласиться с тем, что это право папы является универсальным и вытекающим из Его папского достоинства. Ибо это право принадлежит всякому христианскому суверену в пределах Его собственных владений и неотделимо от верховной власти. До того времени, как народ израильский поставил над собой царя (согласно повелению Бога Самуилу) по примеру других народов, гражданская власть принадлежала первосвященнику, и никто, кроме него, не мог назначать и увольнять низшего священника. Но эта власть потом перешла к царям, как это может быть доказано тем же самым аргументом, которым пользуется Беллармин. Ибо если священник (будь это первосвященник или другой) имел бы свою юрисдикцию непосредственно от Бога, то он не мог бы быть ее лишен царем, так как царь не мог делать ничего, что шло бы вразрез с божественным установлением. Однако достоверно известно, что царь Соломон (1-я Книга Царей 2, 26) удалил от священства первосвященника Авиафара и поставил на Его место Садока. Цари поэтому могут таким же образом ставить и удалять епископов в зависимости от того, сочтут ли то или другое полезным в интересах хорошего управления их подданными.
Шестой Его аргумент таков: если бы епископы имели свою юрисдикцию de jure divino (т. е. непосредственно от Бога), то сторонники такого взгляда привели бы в доказательство Его какое-нибудь Слово Божье, но они не могут привести такого доказательства. Аргумент этот хорош, и мне нечего поэтому возразить против него. Но этот аргумент не менее хорошо можно использовать в доказательство того, что сам папа не имеет никакой юрисдикции во владениях другого суверена.
В качестве последнего своего аргумента Беллармин приводит свидетельство двух пап, Иннокентия и Лео, и я не сомневаюсь, что он с таким же основанием мог бы привести свидетельство всех почти пап после апостола Петра. В самом деле, так как человеческому роду присуща от природы любовь к власти, то всякий, кто стал папой, придет в искушение поддерживать это же самое мнение. Однако все они, как Иннокентий и Лео, будут свидетельствовать лишь о самих себе, и поэтому их свидетельство не имеет никакого значения.
В пятой книге Беллармин защищает четыре положения. Первое положение: папа не является князем всего мира; второе положение: папа не является князем всего христианского мира; третье положение: папа (в не Его собственной территории) не имеет непосредственной светской юрисдикции. С этими тремя положениями можно легко согласиться. Четвертое положение гласит, что папа (во владениях других суверенов) имеет верховную светскую власть косвенно. С этим положением нельзя согласиться, разве только он под косвенно подразумевает, что папа приобрел эту власть косвенными путями. В таком смысле можно и это положение признать. Но я полагаю, что, когда Беллармин говорит: папа имеет верховную власть косвенно, он этим хочет сказать, что светская юрисдикция принадлежит папе по праву, но что это право есть лишь следствие Его пастырской власти, которой он, не имея указанного права, не мог бы осуществлять, и таким образом верховная гражданская власть является необходимым придатком к Его пастырской власти (которую Беллармин называет духовной властью). Отсюда вытекает, что папа, если он считает, что интересы спасения душ этого требуют, может менять царства, отбирая их у одних и отдавая другим.
Прежде чем я подвергну критическому рассмотрению аргументы, при помощи которых Беллармин пытается доказать свое учение, я считаю нелишним развить все логические следствия этого учения, с тем чтобы государства и монархи, обладающие верховной властью в разных государствах, могли подумать, насколько допущение этого учения в их интересах и насколько оно совместимо с благом их подданных, за которых они должны будут давать отчет в день Страшного суда.
Когда Беллармин говорит, что папа (в территориях других государств) не имеет верховной гражданской власти непосредственно, то мы должны понимать это так, что право папы на эту власть зиждется не на том титуле, на котором зиждется власть всех других суверенов, а именно не на первоначальном акте подчинения управляемых. В самом деле, очевидно и было уже неоднократно доказано в этом трактате, что власть всех суверенов имеет Своим первоначальным источником согласие каждого из будущих подданных, все равно дается ли это согласие при выборе суверена в целях общей защиты против врага, как, например, когда будущие подданные сговариваются назначить человека или собрание людей, которые бы их защищали, или это согласие дается будущими подданными врагу-завоевателю в целях сохранения Своей жизни. Если поэтому папа не предъявляет претензий на гражданскую верховную власть над другими государствами непосредственно, то это означает лишь признание с Его стороны, что это право не приобретено им только что указанным путем, но он этим не отказывается от того, что власть принадлежит ему на другом основании, а именно на основании права, данного ему Богом (без согласия управляемых) при возведении его на папский престол (что подразумевается им под словом косвенно). Но каков бы ни был титул, на который папа ссылается, власть остается той же самой, и он (если мы признаем за ним это право) может назначать монархов и свергать власть государств всякий раз, когда это потребуется в интересах спасения душ, т. е. всякий раз, когда это ему будет угодно, ибо он одновременно претендует на роль единственного судьи того, является ли та или другая мера необходимой в целях спасения человеческих душ или нет. И этому учению учит не только Беллармин, но и многие другие теологи в Своих проповедях и книгах; это учение было прокламировано также некоторыми церковными соборами, и в соответствии с ним, когда представлялся благоприятный случай, папы действовали. Так, четвертый церковный собор в Латеране, созванный при папе Иннокентии (в гл. III о ересях), установил следующий канон: Если какой нибудь король после предупреждения папы не очистит своего королевства от еретиков и, будучи отлучен за это от церкви, не даст в течение года удовлетворения, то подданные такого короля освобождаются повиноваться ему. И было много случаев осуществления этого учения на практике, например низложение французского короля Хильперика, передача императорско-римской короны Карлу Великому, притеснение английского короля Иоанна, перенесение королевской власти в Наварре, а в позднейшее время лига против французского короля Генриха III и многие другие случаи. Я полагаю, что найдется очень мало королей, которые не будут считать эти меры несправедливыми и несообразными; но я хотел бы, чтобы они все раз навсегда решили, быть ли им королями или подданными. Люди не могут служить двум Господам. Поэтому короли должны решиться или держать всецело бразды правления в Своих руках, или передать их целиком в руки папы, с тем чтобы люди, готовые охотно повиноваться, могли найти защиту в этом повиновении. Ибо это различение между светской и духовной властью сводится к одним словам. Является ли соучастницей власти другая косвенная или прямая власть, она одинаково реально разделена, а это опасно во всех отношениях.
Но перейдем теперь к аргументам Беллармина.
Первый аргумент таков: гражданская власть подчинена духовной. Поэтому тот, кто имеет верховную духовную власть, имеет право повелевать мирскими суверенами и распоряжаться их силами и средствами для духовных целей. Что касается различения между светской и духовной властью, то посмотрим, в каком смысле может быть вразумительно сказано, что светская, или гражданская, власть подчинена духовной. Смысл этих слов может быть лишь двоякий. Действительно, когда мы говорим, что одна власть подчинена другой власти, то смысл может быть или такой, что тот, кто обладает одной властью, подчинен тому, кто обладает другой властью, или смысл тот, что одна власть относится к другой как средство к цели. Ибо мы не можем это понять так, что одна власть имеет власть над другой властью, так как подчинение, начальствование, право и власть являются акциденциями не властей, а лиц. Одна власть может быть подчинена другой власти в том же смысле, как искусство седельного мастера подчинено искусству ездока. Поэтому, даже допустив, что гражданское правление установлено как средство вести нас к духовному блаженству, отсюда все же не следовало бы, что если король обладает гражданской властью, а папа – духовной, то в силу этого король в большей мере обязан повиноваться папе, чем всякий седельный мастер обязан повиноваться всякому ездоку. Подобно тому как нельзя из подчиненности какого-нибудь искусства вывести заключение о подчиненности знатока, точно так же нельзя из подчиненности правления делать заключение о подчиненности правителя.
Поэтому когда Беллармин говорит, что гражданская власть подчинена духовной, то он этим хочет сказать, что гражданский суверен подчинен духовному суверену. И аргументация Его выглядит так: гражданский суверен подчинен духовному; поэтому духовный суверен может повелевать светскими суверенами. В этом силлогизме заключение повторяет посылку, которую ему следовало бы доказать. Для доказательства этого он приводит прежде всего следующее соображение: короли и папы, духовенство и миряне составляют единое государство, т. е. единую церковь; и во всех телах члены находятся во взаимной зависимости между собой. Однако духовное не зависит от мирского; поэтому мирское зависит от духовного, и поэтому первое подчинено второму. В этой аргументации имеются две крупные ошибки. Первая ошибка заключается в Его утверждении, будто все христианские короли, папы, духовенство и весь остальной христианский люд составляют единое государство. Ибо очевидно, что Франция является одним государством, Испания – другим, а Венеция – третьим и т. д. И эти государства состоят из христиан, и поэтому они являются также различными обществами христиан, т. е. различными церквами, и они представлены различными суверенами, причем они, подобно естественному человеку, способны приказывать и повиноваться, действовать и быть объектом воздействия, к чему всеобщая или универсальная церковь неспособна, пока она не будет иметь представителя, которого она фактически на земле не имеет. Ибо если универсальная церковь имела бы представителя, тогда без сомнения весь христианский мир составлял бы единое государство, и суверен Его был бы этим представителем как мирским, так и духовным. Претендуя на роль такого представителя, папа требует для себя троякого права, которого наш Спаситель не дал ему, именно права приказывать, судить и наказывать не одним только отлучением от церкви, т. е. отказом от общения с теми, кто не хочет следовать Его учению. Ибо если даже папа и был бы единственным наместником Христа, он тем не менее не мог бы осуществлять свою власть до второго пришествия нашего Спасителя, да и тогда судьей мира должен быть не папа, а сам апостол Петр вместе с другими апостолами.
Вторая ошибка Его первого аргумента заключается в утверждении, будто члены всякого государства находятся, подобно членам естественного тела, во взаимной зависимости между собой. Верно то, что члены всякого государства взаимно связаны между собой, но зависят они только от суверена, который является душой государства. И стоит этой душе исчезнуть, как государство так распадается в огне гражданской войны, что прекращается всякая взаимная связь между людьми в силу отсутствия общей зависимости от известного суверена, точно так же как члены естественного тела распадаются в земле вследствие отсутствия связывающей их души. Таким образом в этом сходстве между государством и естественным телом нет ничего, из чего можно было бы умозаключить о зависимости мирян от духовенства или мирских должностных лиц от духовных, а лишь о зависимости тех и других от гражданского суверена. Гражданский суверен действительно должен руководствоваться в Своих гражданских постановлениях целью спасения душ, но из этого не следует, что он подчинен кому бы то ни было, кроме самого Бога. Таким образом вы видите, что в этом первом аргументе кроется заблуждение, способное обмануть людей, которые неспособны различать между подчиненностью наличных действий цели и подчиненностью лиц в управлении средствами. Ибо средства, необходимые для достижения определенной цели, указаны природой или сверхъестественно самим Богом. Власть же заставлять людей использовать эти средства предоставлена (естественным законом, запрещающим людям нарушить обещанную верность) в каждом государстве гражданскому суверену.
Второй аргумент Беллармина таков: всякое государство (так как оно предполагается совершенным и самодовлеющим) может приказать любому другому, не подчиненному ему, государству и принуждать Его силой изменить свое правительство; мало того, оно может в этом не зависимом от него государстве низложить суверена и поставить на Его место другого, если оно иным путем не может защищать себя против обид, чинимых ему этим государством, тем паче может духовное государство приказать светскому государству сменить свое правительство и может низложить монархов и назначать других, если это духовное государство иным путем не может защищать свои духовные блага. Что государство в целях защиты себя от обид может законным образом делать все то, что Беллармин здесь говорит, – является бесспорным и было уже достаточно доказано в предыдущих частях этого трактата. Если было бы также верно, что ныне в этом мире имеется духовное государство, отличное от гражданского государства, тогда суверен этого государства мог бы объявить войну любому другому государству в целях получения удовлетворения за причиненную ему обиду или в целях обеспечения себя против будущих обид. А война означает в общем: низложить, убивать, покорять или совершать какой-нибудь враждебный акт. Но на том же основании было бы не менее законным актом со стороны гражданского суверена объявить войну духовному суверену, если он потерпел от последнего обиду или имеет основание опасаться такой обиды от него в будущем, а это, как я полагаю, идет дальше того, что желательно было бы кардиналу Беллармину в качестве вывода из Его собственного положения.
Однако духовного государства нет в этом мире, ибо духовное государство есть то же, что царство Христа, которое, как Христос сам говорит, не от мира сего, но будет в ближайшем мире при воскресении, когда те, которые вели праведную жизнь и верили, что он – Христос, воскреснут (хотя они умерли как естественные тела) как духовные тела, и тогда именно наш Спаситель будет судить мир и покорит Своих противников и оснует духовное царство. Ввиду того что до наступления этого периода нет на земле людей, которые обладали бы духовными телами, то до наступления этого времени не может быть и духовного государства среди людей во плоти, разве только мы назовем государством проповедников, имеющих полномочия учить и приготовить людей к их принятию в царство Христа при воскресении, неправильность чего я уже доказал.
Третий аргумент таков: христиане не имеют права терпеть короля-иноверца или еретика, если он стремится совратить Своих христианских подданных в свою ересь или в свою веру. Но судить о том, совращает ли король Своих подданных в ересь или нет, есть право папы. По этому папа имеет право решать, следует ли низложить короля или нет. На это я отвечаю, что оба эти утверждения неправильны. Ибо христиане (или люди, исповедующие какую угодно религию), которые восстают против короля, какие бы законы он ни издавал, хотя бы это были законы, касающиеся религии, нарушают этим свою верность, что противоречит божескому закону, как естественному, так и положительному. Да и нет судьи для подданных в отношении того, что является ересью, кроме их собственного гражданского суверена. Ибо ересь есть нечто иное, как упрямо защищаемое частное мнение, идущее вразрез с тем мнением, которое государственное лицо (т. е. представитель государства) постановило пропагандировать. Отсюда ясно, что учение, которое государство наметило к распространению, не может быть ересью, а суверены, поощряющие это учение, не могут быть еретиками. Ибо еретиками являются лишь частные лица, упорно защищающие учение, запрещенное их законными суверенами.
Однако, чтобы доказать, что христиане не имеют права терпеть королей иноверцев или еретиков, Беллармин ссылается на место из Второзакония 17, где Бог на тот случай, если евреи пожелают поставить над собой царя, запрещает им избирать иноземца.
Отсюда Беллармин заключает, что христиане не имеют права избирать короля, который не является христианином. И верно конечно, что христианин, т. е. человек, который уже обязался принять царем нашего Спасителя, когда он придет, будет слишком искушать Бога, избирая королем в этом мире человека, о котором он знает, что он террором и убеждением будет стараться заставить Его изменить Своей вере. Но, говорит Беллармин, одинаково опасно избирать королем не христианина и не низложить его, когда он уже избран. На это я отвечаю, что вопрос не в том, опасно ли не низложить такого короля, а в том, правомерно ли низложить его. Избирать такого короля, может быть, в некоторых случаях неправомерно, но низложить его, когда он уже избран, ни в коем случае не является правомерным. Ибо низложение в этом случае было бы нарушением верности и, следовательно, против естественного закона, являющегося вечным божественным законом. Да и ниоткуда не видно, чтобы такое учение считалось христианским в эпоху апостолов или в эпоху римских императоров до того момента, когда гражданская власть в Риме перешла к папам. На это, правда, Беллармин отвечает, что древние христиане не свергли ни Нерона, ни Диоклетиана, ни Юлиана, ни арианца Валента исключительно по той причине, что им для этого не хватало сил. Это может быть и так. Но разве нашему Спасителю, которому стоило бы лишь потребовать, как к Его услугам были бы двенадцать легионов бессмертных, неуязвимых ангелов, разве ему не хватало сил, чтобы убить цезаря или по крайней мере Пилата, которым Христос противозаконно, так как Пилат не признавал за ним никакой вины, был выдан евреям, чтобы быть распятым на кресте? Или если апостолы не имели сил, чтобы свергнуть Нерона, то разве необходимо было поэтому, чтобы они в Своих посланиях к новообращенным христианам проповедовали последним (как они это делали), что они должны повиноваться поставленным над ними властям (в числе которых был и Нерон) и что они должны это делать не из боязни их гнева, а по совести? Можем ли мы сказать, что по причине своего физического бессилия апостолы не только повиновались, но и учили чему-то, что шло против их собственного убеждения? Поэтому христиане обязаны терпеть Своих языческих суверенов или суверенов, поощряющих какое-нибудь ложное учение (ибо я не могу называть еретиком никого, чье учение имеет за собой авторитет государства), не только по причине своего бессилия, но и за совесть.
И если Беллармин в пользу мирской власти папы приводит далее тот довод, будто апостол Павел (Первое Послание к кор. 6) под режимом языческих властителей того времени назначил таких судей, которые не были определены на эту должность теми властителями, то это неверно. Ибо апостол Павел только посоветовал Своим адресатам выбрать лучше некоторых из Своих братьев, чтобы улаживать их конфликты, чем судиться друг с другом у языческих судей, – Спасительное и благое правило, которое целесообразно было бы проводить также в лучших христианских государствах. А что касается опасности, которая может возникнуть для религии от того, что подданные будут терпеть языческого или заблуждающегося властителя, то насчет этого пункта подданный не является компетентным судьей, а если он является таким судьей, то и мирские подданные папы могут быть судьями Его учения. Ибо всякий христианский властитель, как было раньше доказано, является не в меньшей степени верховным пастырем Своих подданных, чем папа по отношению к Своим.
Четвертый свой аргумент Беллармин выводит из крещения королей. При крещении короли, для того чтобы они могли сделаться христианами, подчиняют свои скипетры Христу и обещают соблюдать и защищать христианскую веру. Это верно, ибо христианские короли являются лишь подданными Христа. Однако они могут при всем том быть равноправными папе, так как они являются верховными пастырями их собственных подданных, а папа даже в самом Риме не больше чем король и пастырь.
В качестве пятого аргумента Беллармин приводит слова Спасителя: паси моих овец. Этими словами апостолу Петру, по мнению Беллармина, дана вся власть, необходимая пастырю, как, например, прогонять волков, которыми и являются еретики, запирать баранов, ставших бешеными, или бодающих рогами овец, которыми являются дурные короли (хотя и христиане), а также власть давать пастве надлежащий корм. Отсюда Беллармин заключает, что апостол Петр получил эту тройную власть от Христа. На это я отвечаю, что последняя из этих властей есть не больше чем власть Или, вернее, чем заповедь учить. В отношении первой власти, а именно власти прогонять волков, т. е. еретиков, он цитирует следующее место (Матвей 7, 15): берегитесь лжепророков, которые при ходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Однако еретики не являются ни лжепророками, ни вообще пророками, и (даже допустив, что под волками подразумеваются еретики) апостолы не велели убивать их или низложить их, если бы они были королями, а лишь остерегаться их, бежать от них и избегать их. Да и совет избегать лжепророков был дан не апостолу Петру, а толпе евреев, следовавших за Христом на гору, причем большая часть этой толпы состояла из людей, еще не обращенных. Таким образом, если этими словами дано право прогонять королей, то это право дано не только частным людям, но и людям, которые вовсе не были христианами. А что касается власти изолировать и запирать бешеных баранов (под которыми он подразумевает христианских королей, отказывающихся подчиниться римскому пастырю), то сам наш Спаситель отказался взять на себя эту власть в этом мире, а советовал до дня суда дать расти хлебному злаку вместе с плевелом. Тем паче не мог он дать такой власти апостолу Петру и не мог дать ее апостол Петр папам. Апостолу Петру и всем другим пастырям было приказано рассматривать тех христиан, которые не повинуются церкви (т. е. не повинуются христианским суверенам) как язычников и мытарей. Ввиду того что люди не требуют для папы власти над языческими властителями, они не должны требовать для него также власти над теми, кого приходится рассматривать как язычников.
Однако из данной папе власти учить Беллармин выводит также принудительную власть папы по отношению к королям. Пастырь (говорит он) должен давать Своей пастве надлежащий корм; поэтому папа может и должен заставить королей исполнять свой долг. Из этого следует, что папа как пастырь христианского мира является царем царей. Все христианские короли должны в самом деле или признать это положение, или же они должны взять на себя обязанности христианского пастыря, каждый в своем собственном государстве.
Шестой и последний аргумент Беллармина составляют примеры. На это я отвечаю: во-первых, примеры ничего не доказывают, во-вторых, примеры, на которые он ссылается, не создают даже и подобия права. Убийство Иодаем Гофолии (2-я Книга Царей 11) было совершено или по поручению царя Иоаса, или же это было страшным преступлением со стороны первосвященника, который (во всяком случае после избрания царя Саула) был простым подданным, а отлучение от церкви императора Феодосия св. Амвросием (если верно, что последний это сделал) было уголовным преступлением. А что касается пап: Григория I, Григория II, Захария и Лео III, то их суждения не имеют никакого значения, так как они являются судьями в своем собственном деле, а действия, совершенные ими в соответствии с этим учением, являются величайшими преступлениями (особенно действия Захария), до которых только может опуститься человек. И этим довольно сказано о церковной власти. Я бы менее распространялся на эту тему и обошел бы молчанием приведенные взгляды Беллармина, если бы это были взгляды частного человека, а не борца за папство против всех других христианских властителей и государств.
Глава XLIII
О необходимом условии для принятия человека в Царство Небесное
Наиболее частым предлогом для мятежа и гражданской войны служила в течение долгого времени во всех христианских государствах недостаточно разрешенная и поныне трудность повиноваться одновременно Богу и человеку в тех случаях, когда повеления того и другого противоречат друг другу. Вполне очевидно, что, когда человек получает два противоречивых приказания и знает, что одно из них исходит от Бога, он обязан повиноваться этому приказанию, а не другому, хотя бы это другое исходило от его законного суверена (монарха или суверенного собрания) или от собственного отца. Трудность поэтому заключается в том, что, когда люди получают какое-нибудь повеление от имени Бога, они во многих случаях не знают, исходит ли это повеление от Бога или же тот, кто приказывает им, злоупотребляет именем Бога ради своих частных целей. Ибо подобно тому, как в еврейской церкви было много лжепророков, добивавшихся славы в народе вымышленными снами и видениями, точно так же и в церкви Христа имеется много лжеучителей, добивающихся славы в народе фантастическими ложными учениями, с тем чтобы благодаря этой славе (такова уже природа честолюбия) управлять людьми в своих частных интересах.
Однако трудность повиноваться Богу и гражданскому суверену на земле не имеет значения для тех, кто умеет различать между тем, что необходимо, и тем, что не необходимо для их принятия в Царство Божие. Ибо если повеление гражданского суверена таково, что оно может быть выполнено без потери вечной жизни, то неповиновение неправомерно, и в подобном случае приобретает значение правило апостолов: слуги, повинуйтесь во всем своим господам! – и: дети, повинуйтесь во всем своим родителям! А также правило нашего Спасителя: книжники и фарисеи сидят на Моисеевом седалище и поэтому все, что они скажут, соблюдайте и делайте.
Если же повеление таково, что оно не может быть выполнено, без того чтобы быть осужденным на вечную смерть, то было бы сумасшествием повиноваться ему, и в этом случае приобретает значение совет нашего Спасителя: небойтесь убивающих тело, души же не могущих убить.
Поэтому все люди, желающие избегнуть как тех наказаний, которым они могут быть подвергнуты в этом мире за неповиновение своему земному суверену, так и тех наказаний, которым они могут подвергнуться в будущем мире за неповиновение Богу, необходимо должны научиться хорошо различать между тем, что необходимо, и тем, что не необходимо для вечного спасения.
Все, что необходимо для спасения, содержится в двух добродетелях: вера в Христа и повиновение законам. Если бы последняя из этих добродетелей была совершенна, то ее одной было бы для нас достаточно. Однако так как мы все виновны в неповиновении законам Бога не только в силу нашего первородного греха в Адаме, но также в силу наших нарушений этих законов в настоящем, то необходимым условием нашего спасения является не только повиновение на весь остаток нашей жизни, но и отпущение грехов за прошлое. А это отпущение есть награда за нашу веру в Христа. Что ничто другое не требуется для спасения, ясно видно из того, что царство небесное закрыто лишь для грешников, то есть для тех, кто не повинуется закону или нарушает его; но даже и для таких оно не закрыто в том случае, если они раскаются и уверуют во все догматы христианской веры, необходимые для спасения.
Так как Бог во всех наших делах засчитывает волю за деяние, то повиновение, которого Он от нас требует, есть серьезное усилие к повиновению, и это повиновение называется всеми теми наименованиями, которые обозначают усилие. И поэтому это повиновение обозначается иногда словом любовь, так как это слово подразумевает волю к повиновению. И сам наш Спаситель считает любовь к Богу и к ближнему исполнением всего закона. Иногда же это повиновение обозначается словом справедливость, ибо справедливость есть воля воздать каждому его собственное, то есть стремление повиноваться законам. Иногда же это повиновение обозначается словом раскаяние, так как слово раскаяние подразумевает отвращение от греха, что означает то же, что возвращение воли к повиновению. Всякий поэтому, кто непритворно желает выполнить заповеди Бога, искренно раскаивается в нарушениях этих заповедей, всякий, кто любит Бога всем сердцем и своего ближнего, как самого себя, – всякий такой человек проявляет то повиновение, которое необходимо для его принятия в Царство Божье. Ибо, если бы Бог требовал полной невинности, никакая плоть не могла бы спастись.
Но каковы те заповеди, которые Бог нам дал? Являются ли заповедями Бога все те законы, которые были даны евреям рукой Моисея? Если они являются таковыми, то почему не учат христиан повиноваться им? Если же они не являются таковыми, то какие же другие законы являются заповедями, кроме естественных законов? Ибо наш Спаситель Христос не дал нам новых законов, а лишь совет соблюдать те законы, которым мы подчинены, то есть естественные законы и законы наших различных суверенов. И в своей Нагорной проповеди Христос не дал никакого нового закона евреям, а лишь изложил им законы Моисея, которым евреи были подчинены раньше. Законами Бога являются поэтому лишь естественные законы, основным из которых является тот, что мы не должны нарушать нашей верности, то есть заповедь повиноваться нашим гражданским суверенам, поставленным над нами нашим взаимным договором между собой. И этот закон Бога, повелевающий повиновение гражданскому закону, содержит в себе как логическое следствие повеление подчиняться всем предписаниям Библии, которая (как я доказал это в предшествующей главе) является законом лишь там, где гражданский суверен объявил ее таковым, а в других местах она является лишь советом, который человек на свой собственный страх и риск может, не совершая ничего незакономерного, отказаться выполнить.
Зная теперь, каково то повиновение, которое необходимо для спасения, и кому мы обязаны, мы должны вслед за этим рассмотреть вопрос веры, а именно кому мы должны верить и почему мы должны верить, а также каковы те догматы или пункты, в которые необходимо верить тем, кто желает спастись. И прежде всего, что касается лица, которому мы верим, то это необходимо должно быть лицо, которое говорило с нами, ибо невозможно верить кому бы то ни было, прежде чем мы знаем, что он говорит, поэтому лицом, которому верили Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и пророки, был сам Бог, который говорил с ними сверхъестественным образом, а лицом, которому верили апостолы и ученики, общавшиеся с Христом, был сам наш Спаситель. Но о тех, с которыми никогда не говорил ни Бог Отец, ни наш Спаситель, нельзя сказать, что лицом, которому они верили, был сам Бог. Они верили апостолам, а после них пастырям и учителям церкви, внушавшим им веру в историю Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, вера христиан после эпохи нашего Спасителя имела своим основанием, во-первых, репутацию их пастырей, а затем авторитет тех, которые сделали Ветхий и Новый Заветы правилом веры, а это могли сделать одни лишь христианские суверены. Поэтому эти суверены являются верховными пастырями и единственными лицами, которые говорят нынешним христианам от имени Бога, за исключением таких лиц, с которыми Бог в наши дни говорит непосредственно, сверхъестественным образом. Однако так как много лжепророков появилось в мире, то другие люди должны испытывать духов, от Бога ли они или нет (как это советует апостол Иоанн в Первом послании, гл. 4, ст. 1). И так как испытание учений есть дело верховного пастыря, то лицом, которому все, кто не имеет специального откровения, обязаны верить, является (во всех государствах) верховный пастырь, то есть гражданский суверен.
Основания, в силу которых люди верят какому-нибудь христианскому учению, бывают разные. Ибо вера есть дар Бога, который внушает эту веру разным людям разными путями по своему благоусмотрению. Наиболее обычной непосредственной причиной нашей веры в отношении какого-нибудь пункта христианской веры является наша вера в то, что Библия есть слово Божье. Но много споров возбуждает вопрос о том, почему мы верим, что Библия есть слово Божье, как это неизбежно при всяком неправильно поставленном вопросе. Ибо вопрос ставится не так: почему мы верим, а: откуда мы знаем, как будто бы вера и знание есть одно и то же. И отсюда результат, что, когда одна сторона основывает наше знание на непогрешимости церкви, а другая сторона – на свидетельстве частного духа, ни одна из этих сторон не обосновывает того, что она хочет обосновать. Ибо как может человек знать непогрешимость церкви, не убедившись предварительно в непогрешимости Писания? Или как может человек знать, что его собственный частный дух есть что-то другое, чем вера, основанная на авторитете и аргументах его учителей или на слепом доверии к его собственным дарованиям? Мало того, ничего нельзя найти в Писании, откуда можно было бы умозаключить о непогрешимости церкви, еще меньше можно из Писания умозаключать о непогрешимости какой-нибудь отдельной церкви, а меньше всего о непогрешимости какого-нибудь частного человека.
Очевидно поэтому, что христиане не знают, а лишь веруют, что Писание есть слово Божие и что те средства, при помощи которых Богу обычно угодно внушать людям эту веру, суть естественные пути, то есть Бог внушает эту веру людям через их учителей. Свое учение о христианской вере в общем апостол Павел выражает словами: вера происходит от слышания (К Римлянам, 10, 17), то есть от слышания наших законных пастырей. Этот же апостол говорит также (ст. 14 и 16 той же главы): как веровать в того, о ком не слыхали? как слышать без проповедующего? и как проповедовать, если не будут посланы? Отсюда очевидно, что обычная причина веры в то, что Писания суть слово Божье, тождественна с причиной нашей веры во все другие догматы нашей веры, а именно слышание тех, которые законом допущены и назначены учить нас, как, например, наши родители в их домах и наши пастыри в церкви. И это лучше всего доказывается опытом. Ибо какой другой причиной можно объяснить, почему в христианских государствах все люди или веруют, или по крайней мере исповедуют, что Писание есть слово Божье, а в других государствах едва ли в это верует хоть один человек, – какой другой причиной это можно объяснить, если не тем обстоятельством, что в христианских государствах людей учат этому с детства, в других же государствах их учат чему-то другому?
Но если учение есть причина веры, то почему не все веруют? Ясно поэтому, что вера есть дар Бога и что Бог дает ее тому, кому Он хочет. Тем не менее так как Он дает эту веру при помощи учителей, то непосредственной причиной веры является слышание. В школе, в которой многие обучаются и некоторые успевают, а другие не успевают, причиной учености тех, которые успевают, является учитель, и, однако, отсюда нельзя заключать, что ученость не есть дар Божий. Все хорошие качества проистекают от Бога, однако не все, кто обладает ими, могут считать себя вдохновенными, ибо вдохновенность подразумевает сверхъестественный дар и непосредственный перст Божий, и тот, кто претендует на это, претендует на роль пророка и должен быть подвергнут испытанию церкви.
Однако все равно, знают ли люди, веруют ли или соглашаются, что Писание есть слово Божье, раз я покажу на основании ясных по смыслу мест этого Писания, какие догматы веры необходимы и единственно необходимы для спасения, эти люди должны будут знать это, верить в это или соглашаться с этим.
Единственный догмат веры (unum necessarium), который Писание делает абсолютно необходимым для спасения, есть тот, что Иисус есть Христос. Под именем Христа подразумевается царь, которого Бог обещал раньше через пророков Ветхого Завета послать в мир, чтобы царствовать (над евреями и над такими из других народов, которые уверуют в него) под верховным владычеством Бога вовеки и дать своим подданным ту вечную жизнь, которую они потеряли благодаря грехопадению Адама. Доказав это на основании Писания, я далее докажу, когда и в каком смысле и некоторые другие догматы могут также быть названы необходимыми.
Свой первый аргумент для доказательства того положения, что вера в догмат: Иисус есть Христос – составляет всю ту веру, которая требуется для спасения, я почерпаю из намерения евангелистов. Это намерение при описании ими жизни нашего Спасителя было установить этот единственный догмат, что Иисус есть Христос. Содержание Евангелия апостола Матфея сводится к тому, что Иисус был из рода Давида, рожден от Девы, данные, которые являются признаками истинного Христа; что волхвы пришли поклониться Ему как Царю Иудейскому; что Ирод по этой же причине искал погубить Его; что Иоанн Креститель провозглашал Его; что Иисус Сам и Его апостолы проповедовали, что Он есть царь; что Он учил закону не как книжник, а как власть имущий; что Он одним своим словом исцелял болезни и совершал много других чудес, которые согласно предсказаниям должен был совершать Христос; что Его при Его вступлении в Иерусалим приветствовали как царя; что Он предостерегал людей против всех других, которые выдавали бы себя за Христа; что Он был взят, обвинен и предан смерти за то, что Он называл себя царем; что надпись на Его кресте, указывавшая причину Его осуждения, гласила: Иисус из Назарета, Царь иудейский. Все это клонится лишь к той цели, чтобы люди уверовали, что Иисус есть Христос. Такова поэтому была цель Евангелия апостола Матфея. Но такова же была цель всех евангелистов (как в этом можно убедиться при чтении их Евангелий). Поэтому установление этого единственного догмата было целью всего Евангелия. Апостол Иоанн же ясно приводит этот догмат как вывод из его Евангелия: сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын живого Бога (Ин., 20, 31).
Свой второй аргумент я почерпаю из содержания проповедей апостолов, как тех, которые произносились при жизни нашего Спасителя на земле, так и тех, которые произносились после Его восшествия. Ибо при жизни нашего Спасителя апостолы были посланы, как это указано в Евангелии от Луки, 9, 2, проповедовать Царство Божье. В самом деле, ни здесь, ни в Евангелии от Матфея, 10, 7, Иисус не дает другого поручения апостолам, кроме лишь: ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное, то есть что Иисус есть Мессия, царь, который должен был прийти. Что проповедь апостолов и после вознесения Христа имела то же содержание, видно из Деяний, 17, 6, а также из Деяний, 17, 2, 3.
Свой третий аргумент я почерпаю из всех тех мест Писания, в которых объявляется, что вся та вера, которая требуется для спасения, легка. Ибо если необходимым условием спасения было бы внутреннее признание всех тех учений относительно христианской веры, которым теперь учат, то не было бы на свете ничего более трудного, чем быть христианином. Если бы указанного догмата было недостаточно для спасения, вор на кресте не мог бы спастись одним тем, что он сказал: Господи, вспомни обо мне, когда придешь в царство Твое, ибо он этим засвидетельствовал свою веру лишь в тот единственный догмат, что Иисус – царь. При указанном условии нельзя было бы также сказать (как сказано Матфеем 11, 30), что иго Христа благо и бремя Его легко, и не могло бы быть сказано, как сказано у Матфея, 18, 6, что малые дети веруют в Христа. Не мог бы также при этом условии апостол Павел сказать: благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, да и не мог бы сам апостол Павел спастись, а тем меньше он мог бы стать внезапно таким великим учителем церкви – он, который, может быть, никогда не думал ни о пресуществлении, ни о чистилище, ни о других ныне навязываемых догматах.
Свой пятый аргумент я почерпаю из ясных и не допускающих разных толкований мест, прежде всего место в Евангелии апостола Иоанна, 5, 39: и с следуйте писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Под писаниями апостол Иоанн здесь подразумевает Ветхий Завет, ибо евреи того времени не могли исследовать Нового Завета, который еще не был написан. Но в Ветхом Завете насчет Христа были указаны лишь те признаки, при помощи которых люди могли бы узнать Его, когда Он придет, а именно что Он произойдет от рода Давида, родится от Девы в Вифлееме, совершит великие чудеса и т. п. Поэтому верить, что Иисус именно был этим Христом, достаточно для приобретения вечной жизни, а большего, чем то, что достаточно, не требуется, следовательно для спасения не требуется другого догмата. Далее Иоанн, 11, 26: и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Поэтому вера в Христа есть вера, достаточная для вечной жизни, и, следовательно, большей веры для вечной жизни не требуется. Но вера в Иисуса и вера в то, что Иисус – Христос, есть, как видно из непосредственно следующих стихов, одно и то же. Ибо когда наш Спаситель спросил Марфу: веришь ли ты сему? – она ответила ему: так, Господ и! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Таким образом один этот догмат достаточен для вечной жизни, а то, что сверх достаточного, не необходимо1. Поэтому вера в догмат, что Иисус – Христос, достаточна для крещения, то есть для нашего принятия в Царство Божье, и, следовательно, является единственно необходимой. И вообще во всех тех местах, где наш Спаситель говорит кому-либо: твоя вера спасла тебя, причиной такого высказывания является признание собеседника, прямо или косвенно заключающее в себе веру в то, что Иисус есть Христос.
1 Далее Гоббс цитирует Евангелие от Иоанна, 20, 31, Послание от Иоанна, 4, 2 и 5, 1, 5, а также Деяния, 8, 36, 37.
Последний аргумент я почерпаю из тех мест, где указанный догмат объявляется основой веры, ибо тот, кто исповедует основу веры, будет спасен. Такими местами являются, во-первых, Матфей, 24, 23: если кто скажет вам: вот здесь Христос или там – не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса. Отсюда видно, что следует придерживаться догмата: Иисус есть Христос, хотя бы те, кто проповедует противоположное, совершали великие чудеса. Второе место – это Послание к Галатам, 1, 8: если бы даже мы или ангел с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Но Евангелие, которое благовествовали Павел и другие апостолы, заключалось в том единственном догмате, а именно что Иисус – Христос. Поэтому во имя веры в этот догмат мы обязаны отвергать авторитет ангела с неба, а тем паче смертного, проповедующего противоположное учение. Этот догмат является, таким образом, основным догматом христианской веры. Третье место – это Первое послание Иоанна, 4, 1: возлюбленные! не всякому духу верьте. Духа Божия узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Отсюда явствует, что этот догмат является мерилом и правилом, при помощи которого следует оценивать и испытывать все другие догматы, и поэтому он один является основным. Четвертым местом является Матфей, 16, 18, где, после того как Петр признал этот догмат, сказав нашему Спасителю: Ты – Христос, Сын Бога живого, наш Спаситель ответил: ты – Петр, и на этом камне Я создам Мою церковь. Отсюда я заключаю, что это именно тот догмат, на котором все остальные учения церкви зиждутся как на своем фундаменте (см. также Первое послание к Кор., 3, 11, 12 и далее). Так как это последнее место лишь отчасти ясно и легко понятно, отчасти же аллегорично и трудно, то из того, что ясно, можно умозаключать, что пастыри, проповедующие эту основу, а именно что Иисус есть Христос, могут спастись даже в том случае, когда они из этой основы выводят ложные заключения (слабость, которой иногда подвержены все люди); тем паче следует отсюда возможность спасения для таких людей, которые, не будучи пастырями, а лишь слушателями, верят всему тому, чему их учат их законные пастыри. Вера в этот догмат поэтому достаточна, а следовательно, никакой другой догмат веры не является необходимым условием для спасения.
Что же касается теперь аллегорической части приведенного места, а именно что огонь испытает дело каждого, каково оно есть, и что они спасутся, но так как бы из огня или через огонь (ибо в оригинале сказано διά πυρός), то эта часть ничего не говорит против того заключения, которое я вывел из других слов, смысл которых ясен. Тем не менее так как это место было использовано как аргумент для доказательства существования огня чистилища, то я намерен предложить вам здесь свою догадку насчет смысла испытания учения и спасения людей как бы посредством огня. Апостол как будто намекает здесь на слова пророка Захарии, который, говоря о восстановлении Царства Божия, говорил следующее: две части на земле будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото, они будут призывать имя Мое, и Я услышу их. День суда есть день восстановления Царства Божия. В этот именно день, по предсказанию апостола Петра, будет светопреставление, в котором нечестивые погибнут, но остальные, которых Бог спасет, пройдут через этот огонь невредимыми и будут в нем испытаны и очищены от их идолопоклонства (подобно тому как золото и серебро очищаются огнем от их шлака) и будут побуждены призывать имя истинного Бога. Намекая на это, апостол Павел говорит здесь, что этот день (то есть день суда, великий день, когда наш Спаситель придет, чтобы восстановить Царство Божье в Израиле) подвергнет испытанию Символ веры каждого и установит, какие из них являются золотом, серебром, драгоценными камнями, деревом, сеном и соломой. И тогда те, которые строили ложные заключения на правильной основе, найдут свои учения осужденными, но тем не менее сами они будут спасены и пройдут невредимыми сквозь этот мировой огонь и будут жить вовеки, чтобы призывать имя истинного и единого Бога. В этом смысле тут нет ничего, что не согласовалось бы с остальной частью Священного Писания и в чем виден был бы хоть слабый отсвет огня чистилища.
Однако кто-нибудь, пожалуй, спросит: разве для спасения не необходима вера в то, что Бог всемогущ, что Он творец Вселенной, что Иисус воскрес, что все люди воскреснут снова из мертвых в последний день, – разве эта вера не необходима для спасения в такой же мере, как вера в то, что Иисус есть Христос? На это я отвечаю, что вера во все эти догматы необходима и точно так же необходима вера во многие другие догматы, но все эти догматы содержатся в этом и могут быть выведены из него с большей или меньшей трудностью. Ибо кто же не видит, что те, кто верует, что Иисус – Сын Бога Израиля и что израильтяне имели своим Богом всемогущего творца Вселенной, тем самым верует, что Бог есть всемогущий творец Вселенной? Или как может человек верить, что Иисус – царь, который будет царствовать вовек, если он не верит, что Он снова воскрес из мертвых? Ибо мертвый человек не может осуществлять царской власти. Одним словом, тот, кто исповедует основу, а именно что Иисус есть Христос, исповедует этим сознательно все те следствия, которые он сам выводит из нее, и бессознательно все, что вытекает из этой основы, хотя бы сам верующий не обладал достаточным искусством, чтобы вывести эти следствия. Поэтому можно с полным основанием сказать, что вера в этот единственный догмат является достаточным условием, при котором раскаявшиеся грешники могут получить отпущение грехов и, следовательно, быть принятыми в царство небесное.
Показав теперь, что все повиновение, которое требуется для спасения, заключается в воле к повиновению закону Бога, то есть в раскаянии, а что вся вера, которая требуется для того же самого, содержится в вере в догмат: Иисус есть Христос, я в дальнейшем хочу процитировать все те места Евангелия, которые доказывают, что все, необходимое для спасения, содержится в соединении этих двух моментов. Люди, которым апостол Петр проповедывал в первый после вознесения нашего Спасителя день Пятидесятницы, спросили его и прочих апостолов, сказав: мужи и братия, что нам делать? (Деяния, 2, 37). На это им апостол Петр ответил (след. ст.): покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Таким образом, покаяние и крещение, то есть вера в то, что Иисус есть Христос, составляет все, что необходимо для спасения. Далее, когда некто из начальствующих спросил нашего Спасителя: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? – Спаситель ответил: знаешь заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «почитай отца твоего и матерь твою». Когда же тот сказал, что он эти заповеди соблюдает, наш Спаситель прибавил: продай все, что имеешь, и раздай нищим и приходи, следуй за мной, что равносильно тому, как если он сказал бы: полагайся на Меня, ибо Я царь. Следовательно, исполнение закона и вера, что Иисус есть царь, составляет все, что необходимо для того, чтобы человек обрел вечную жизнь. В-третьих, апостол Павел говорит: праведный верой жив будет, не всякий, а лишь праведный. Таким образом, вера и справедливость (то есть воля быть справедливым или раскаяние) есть все, что необходимо для вечной жизни. И наш Спаситель проповедовал (Марк, 1, 15): время исполнилось и приблизилось царство Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть в благую весть, что Христос пришел. Поэтому покаяться и верить, что Иисус – Христос, есть все, что требуется для спасения.
Ввиду того что для нашего спасения необходимо соединенное действие двух моментов: повиновения и веры, то нелепо подымать вопрос о том, каким из этих моментов мы оправдываемся. Тем не менее вполне уместно будет выяснить, каким образом каждый из моментов способствует нашему спасению и в каком смысле сказано, что мы должны быть оправданы тем и другим. И прежде всего, если под справедливостью следует понимать справедливость самих действий, то никто не может спастись, ибо нет никого, кто бы ни нарушал закона Бога. И поэтому, когда говорится, что мы оправданы делами, то под делами следует разуметь волю, которую Бог всегда принимает за дела как у добродетельных, так и у порочных людей. И лишь в этом смысле мы называем человека справедливым или не справедливым, и лишь в этом смысле мы говорим, что справедливость оправдывает человека, то есть дает ему благодаря благорасположению Бога титул справедливого и делает его способным жить своей верой, к чему он раньше не был способен. Так что справедливость оправдывает в том смысле, в каком оправдывать – значит на именовать человека справедливым, а не в смысле оправдания по закону, при котором было бы несправедливо наказывать его за его грехи.
Однако мы считаем человека оправданным и в том случае, когда его защита, хотя бы и сама по себе неудовлетворительная, принята. Так, например, когда мы выдвигаем в свое оправдание нашу волю, наше устремление исполнять закон и раскаиваемся в наших прегрешениях, и Бог принимает эту волю к исполнению закона как фактическое его исполнение. Однако так как Бог засчитывает волю за деяние лишь у верующего, то поэтому лишь вера делает нашу защиту эффективной, и в этом смысле говорится, что лишь одна вера оправдывает. Для спасения, таким образом, необходимы как вера, так и повиновение, но о каждом из этих моментов говорится в различном смысле, что он оправдывает.
После того как мы показали, что именно необходимо для спасения, нам нетрудно будет примирить наше повиновение Богу с нашим повиновением нашему гражданскому суверену, который является или христианином, или неверным. Если он христианин, то он разрешает веру в догмат, что Иисус – Христос, и во все те догматы, которые содержатся в этом или могут явно быть выведены из него путем умозаключения. А это – вся та вера, которая требуется для спасения. И так как он суверен, то он требует повиновения всем своим собственным законам, то есть всем гражданским законам, в которых также содержатся все естественные законы, то есть все законы Бога. Ибо, кроме естественных законов и законов церкви, которые являются частью гражданского закона (так как церковь, имеющая право издавать законы, есть государство), нет других божественных законов. Повиновение своему христианскому суверену поэтому никому не мешает ни верить, ни повиноваться Богу. Предположим, однако, что какой-нибудь христианский король сделает из догмата Иисус – Христос какие-нибудь ложные выводы, то есть воздвигнет на этом догмате надстройки из сена и соломы и прикажет учить этому, однако так как, по словам апостола Павла, такой король спасется, то тем паче спасется тот, кто учит по его приказанию, а еще больше тот, кто не учит, а лишь верит своему законному учителю. А в том случае, когда какому-нибудь подданному запрещено его гражданским сувереном исповедовать какой-нибудь признанный им Символ веры, то какое может быть у этого подданного справедливое основание для неповиновения? Христианские короли могут ошибаться в выведении следствий; но кому быть судьей? Может ли быть судьей частный человек, когда речь идет о его собственном повиновении? Или может ли быть кто-либо, кроме того, кто назначен для этого церковью, то есть представляющим церковь гражданским сувереном? Или если бы судьей был папа или даже какой-нибудь апостол, то разве он не может ошибаться в выведении следствий? Разве, когда апостол Павел выступил против апостола Петра, один из них не ошибался в своих надстройках? Не может быть поэтому никакого противоречия между законом Бога и законом христианского государства.
А когда гражданский суверен является неверным, то всякий подданный, оказывающий ему сопротивление, грешит против законов Бога (каковыми являются естественные законы) и отвергает совет апостолов, увещевавших всех христиан повиноваться во всем своим государям, а детей и слуг повиноваться во всем своим родителям и господам. А что касается веры подданных, то она скрыта внутри и невидима, и подданные такого суверена имеют ту же привилегию, какую имел Нееман, и нет никакой необходимости, чтобы они подвергали себя опасности ради нее. Если же они делают это, они должны ждать своей награды на небе, а не жаловаться на своего суверена, а тем меньше объявить ему войну. Ибо тот, кто не рад серьезному поводу принять мученический венец, не имеет той веры, которую он официально исповедует, и он лишь притворяется верующим, чтобы придать некоторый вид своему упрямству. Но какой неверный суверен будет так неразумен, чтобы подвергнуть казни или преследованию подданного, который заведомо для него ждет второго пришествия Христа, после того как настоящий мир будет сожжен и намерен тогда повиноваться ему (каковое намерение содержится в исповедании догмата: Иисус – Христос), а до того времени считает себя обязанным повиноваться законам этого неверного суверена (что обязаны делать за совесть все христиане)?
И этим я заканчиваю свои рассуждения о Царстве Божьем и о церковной политике. В этих рассуждениях я намеревался не развивать какое-нибудь мое собственное положение, а лишь показать, каковы те выводы, которые, по моему мнению, вытекают из принципов христианской политики (которые изложены в Священном Писании) в отношении власти гражданских суверенов и обязанности их подданных. А в своих ссылках на Священное Писание я старался избегать таких текстов, смысл которых неясен или толкование которых спорно. Приводимые же мной цитаты я старался истолковать в таком смысле, который наиболее очевиден и наиболее соответствует общему духу и цели всей Библии, которая была написана в целях восстановления Царства Божия во Христе. Ибо не голые слова, а намерение писателя даст тот истинный свет, при помощи которого должно быть истолковано всякое сочинение. А те, которые цепляются за отдельные тексты, не принимая во внимание основной цели, не могут ничего ясно вывести из них. Напротив, бросая атомы Писания, как пыль в человеческие глаза, они делают всякий смысл более темным, чем он есть на самом деле, – обычная уловка тех, которые ищут не истины, а своей собственной выгоды.
Часть IV
О царстве тьмы
Глава XLIV
О духовной тьме вследствие ошибочного толкования Писания
Помимо верховной власти, божественной и человеческой, о которых я говорил до сих пор, в Писании упоминается еще другая власть, а именно власть миротворителей тьмы сего века (Послание к ефесянам 6, 12), царство сатаны (Матвей 12, 26), власть Вельзевула над демонами (Матвей 12, 24), т. е. над привидениями, которые появляются в воздухе; по этой причине сатана назван также князем, господствующем в воздухе (Послание к ефесянам 22), и (так как он правит во тьме мира сего) князем мира сего (Иоанн 16, 11). И как следствие из сказанного, те, которые находятся под властью сатаны, называются в противоположность верующим (которые называются детьми света) детьми тьмы. Ибо ввиду того что Вельзевул является князем привидений, обитателей Его владений в воздухе и во тьме, то дети тьмы и демоны, привидения или призраки обозначают аллегорически одно и то же.
Ввиду указанного царство тьмы, как оно представлено в этих и в других местах Писания, является лишь союзом обманщиков, которые в целях приобретения власти над людьми в этом мире стремятся темными и ошибочными учениями погасить в них как естественный свет, так и свет Евангелия и с делать их неспособными войти в будущее Царство Божье.
Подобно тому как люди, совершенно лишенные от природы света телесных глаз, не имеют никакого представления о таком свете и подобно тому как человек не может вообразить себе большего света, чем тот, который он в то или другое время воспринял Своими внешними чувствами, точно так же бывает и в отношении света Евангелия и света разума, а именно, что никто не может себе представить большую степень этого света, чем ту, которой он уже достиг. В силу этого бывает так, что люди не имеют других средств познать свою собственную темноту, как лишь путем размышления над теми непредвиденными несчастьями, которые их постигают. Самой темной частью царства сатаны является та часть, которая находится вне церкви Божьей, т. е. среди тех, которые не веруют в Иисуса Христа. Но мы не можем сказать, что церковь пользуется всем тем светом (как земля Гошена), который необходим для исполнения предписанного нам Богом дела. Отчего же происходит в христианском мире чуть не со времени апостолов такое выталкивание друг друга с насиженных мест как путем внешней, так и путем гражданской войны? Отчего такое спотыканье при малейшей собственной неудаче и при малейшем успехе других людей? И отчего мы идем такими различными путями к одной и той же цели, именно к блаженству, если не потому, что мы окутаны мраком или, по крайней мере, туманом? Мы еще поэтому ходим во тьме.
Враг был здесь во тьме нашего естественного невежества и сеял плевелы духовных ошибок, прежде всего злоупотребляя светом Библии и погашая его. Ибо мы ошибаемся в силу незнания Писания. Во-вторых, враг попутал нас введением демонологии языческих поэтов, т. е. их фантастических учений относительно демонов, которые являются лишь идолами или фантомами воображения, не имеющими никакого бытия вне человеческой фантазии, как, например, привидения умерших людей, русалки и другие образы сказок старых баб. В-третьих, враг действует путем примешивания к Писанию различных остатков религии и очень многого из пустой и ошибочной философии греков, особенно Аристотеля. В-четвертых, примешивая к тому и другому лживые или недостоверные предания и вымышленные или недостоверные истории. И таким образом мы впадаем в заблуждение, внимая духам обольстительным и демонологии через лицемерие лжезавистников (или, как сказано в оригинале, Первое Послание к Тимофею 4, 1, 2: тех, которые играют роль лжецов) с сожженной совестью, т. е. заведомо лгущих. В этой главе я намерен кратко остановиться на первом из этих способов, именно на соблазнении людей путем злоупотребления Писанием.
Величайшим и главным злоупотреблением Писанием – таким, из которого все остальные или вытекают как следствия, или которому все подчинены, является искажение Писания с целью доказать, что так часто упоминаемое в Писании Царство Божье есть ныне существующая церковь или совокупность ныне живущих христиан, или совокупность ныне мертвых и долженствующих воскреснуть в последний день, между тем как Царство Божие было вначале установлено при посредстве Моисея над одними евреями, которые были поэтому названы особым народом Бога, а затем прекратилось при избрании Саула, когда евреи не захотели управляться больше Богом и требовали себе царя, как у всех прочих народов, на что сам Бог согласился, как я это более пространно изложил выше в гл. XXXV. После этого не было на свете другого Царства Божия, основанного на договоре или зиждущегося на других основаниях, чем то, что Бог был, есть и будет царем всех людей и всей твари, управляя ими согласно Своей воле, благодаря своему бесконечному могуществу. Тем не менее Бог обещал через Своих пророков восстановить евреям это царство снова, когда исполнится время, назначенное им для этого в Его неисповедимом Промысле, и когда они возвратятся к нему, покаявшись и исправив свою жизнь. Мало того, Бог призвал также язычников прийти и наслаждаться блаженством Его царствования на том же условии обращения и покаяния. И Бог обещал также послать своего сына в мир, чтобы Он Своей смертью искупил грехи их всех и подготовил их Своим учением к Его принятию при Его втором пришествии. Так как второе пришествие еще не совершилось, то Царство Божие еще не наступило, и мы не имеем над собой никаких других царей на основе договора, кроме наших гражданских суверенов. При этом следует лишь сделать ту оговорку, что христиане уже находятся в царстве благодати, поскольку они уже имеют обещание быть принятыми в Царство Божие при втором пришествии Христа.
Из этого ошибочного мнения, будто нынешняя церковь есть царство Христа, вытекает то представление, будто должен быть один человек или собрание, чьими устами наш Спаситель (ныне на небе) говорит и издает законы и которые представляют Его лицо перед всеми христианами, или же должны быть различные лица или разные собрания, выполняющие ту же роль по отношению к разным частям христианского мира. Об этой царской власти под верховным владычеством Христа, на которую во всемирном масштабе претендует папа, а в отдельных государствах духовные синоды соответствующих стран (между тем как Писание предоставляет эту власть лишь гражданскому суверену), ведутся такие страстные споры, что они погашают свет естественного разума и так затемняют человеческий рассудок, что люди в конце концов перестают понимать, кому они обязаны повиновением.
Из этого притязания папы на роль общего наместника Христа в нынешней церкви (которая считается тем царством Христа, о котором говорит Евангелие) вытекает то учение, будто христианский король должен получать свою корону от епископа, как будто бы именно в силу этой церемонии он приобретает в своем титуле частицу dei gratia, и он лишь тогда становится королем Божьей милостью, когда он коронован властью всемирного наместника Бога на земле.
Из указанного притязания папы вытекает также тот обычай, что всякий епископ, кто бы ни был Его сувереном, при Его посвящении дает присягу на абсолютное повиновение папе. В полном соответствии с этим находится постановление четвертого собора в Латеране, заседавшего при папе Иннокентии III (гл. III о еретиках). Постановление это гласит так: если король после указания папы не очистит своего королевства от ересей и, будучи отлученным от церкви за это, не даст удовлетворения в течение года, то подданные такого короля освобождаются от обязанности повиноваться ему, где под ересью подразумеваются все те мнения, которые римская церковь запретила поддерживать. В силу этого бывает так, что, как только политические интересы папы приходят в столкновение с политическими интересами других христианских королей, как это весьма часто бывает, возникает такой туман среди подданных этих королей, что они не умеют различать между иноземцем, узурпирующим трон их законного государя, и тем, кого они сами посадили на этот трон, и в этом затемнении рассудка они побуждаются сражаться друг против друга, не отличая врагов от друзей, и все это в интересах честолюбия другого человека.
Этим же самым мнением, будто нынешняя церковь есть царство Христа, обусловлено то обстоятельство, что пастыри, дьяконы и другие служители церкви присваивают себе имя духовенства, давая другим христианам имя мирян, т. е. просто людей. Ибо слово духовенство обозначает тех людей, чьи средства к жизни составляются из доходов, которые Бог выделил для себя во время Его Царствования над израильтянами и назначил их в наследственную дань колену Левитов (которые были Его политическими служителями и не имели удела, выделенного им для жизни как их братьям). Так как папа претендует (утверждая, что нынешняя церковь, подобно царству Израиля, есть Царство Божье) на подобные доходы как на наследие Бога для себя и для Своих подчиненных служителей, то имя духовенства соответствовало этому притязанию. И этим объясняется, что десятины и другие подати, которые платились среди израильтян на основании права Бога Левитам, в течение долгого времени требовались и взимались церковниками с христиан jure divino, т. е. по праву Бога. Таким путем народ был обязан везде платить двойную подать: одну государству, другую духовенству, причем подать, платимая им духовенству, составляла десятую часть Его дохода и была вдвое больше подати, которую афинский царь (считавшийся тираном) требовал от Своих подданных для покрытия всех государственных расходов. Ибо этот царь взимал лишь двадцатую часть доходов подданных, и, однако, этого достаточно было для удовлетворения нужд государства. А в еврейском царстве в ту эпоху, когда царствовал над ними Бог, а наместниками Его были первосвященники, десятины и жертвоприношения составляли единственный источник государственных доходов.
Из этого же неправильного признания нынешней церкви Царством Божьим произошло различение между гражданскими и каноническими законами, причем под гражданскими законами понимаются законы, изданные суверенами в их собственных владениях, а под каноническими законами – изданные папой в тех же владениях. И хотя до передачи императорской власти Карлу Великому эти каноны были лишь канонами, т. е. предложенными правилами, которые лишь добровольно принимались христианскими государями, однако после, с возрастанием папской власти, они стали принудительными правилами, и сами императоры вынуждены были (чтобы избегнуть больших несчастий, в которые могла быть вовлечена ослепленная масса) допускать их в качестве законов.
Всем этим обусловливается то обстоятельство, что во всех владениях, где целиком признана церковная власть папы, евреи, турки и язычники пользуются веротерпимостью со стороны римской церкви, поскольку они в отправлении своего религиозного культа и в исповедании Своей веры не совершают ничего против гражданской власти, между тем как в христианине, хотя бы и иностранце, неисповедание римско-католической религии считается уголовным преступлением, так как папа претендует на то, что все христиане являются Его подданными. Ибо иначе преследование иностранца за то, что он исповедует религию Своей собственной страны, было бы в такой же мере против международного права, как преследование неверного, и даже в большей мере, ибо кто не против Христа, тот с ним.
Этим самым обусловлено также, что во всяком христианском государстве имеются известные люди, которые в силу привилегий церкви освобождены от налогов и изъяты от подсудности трибуналам гражданского государства. Таково, например, белое духовенство, а сверх того монахи и чернецы, которые во многих местах составляют такую огромную часть всего населения, что в случае надобности из них одних можно было бы составить армию, достаточную для войны, в которую вовлекла бы их воинствующая церковь против их собственных или чужих государей.
Вторым общим злоупотреблением Писанием является превращение посвящения в заклинание или колдование. Посвящать, согласно смыслу этого слова в Библии, значит предлагать, дать, сопровождая это благочестивыми и скромными выражениями и жестами, человека или какой-нибудь другой предмет Богу, изымая Его из общего пользования, т. е. освятить или сделать Его Божьим и объектом пользования лишь тех, кого Бог назначил Своими официальными служителями (как я уже подробно доказал это в гл. XXXV). При этом подразумевается, что меняется не самый посвященный предмет, а лишь характер Его употребления, которое из мирского и обыденного становится священным и выделенным для целей богослужения. Но если утверждается, что при помощи таких слов меняется природа или качество самого предмета, тогда это уже не посвящение, а или необычайное дело Бога, или пустое и нечестивое заклинание. Но ввиду того что это нельзя считать необычайным делом (в силу слишком частого утверждения об изменении природы предмета благодаря посвящению), то это является не чем иным, как заклинанием и колдованием, причем те, которые это утверждают, желают, чтобы люди верили в изменение природы предмета, которое не имеет места и против которого свидетельствуют человеческие глаза и другие органы чувств. Так, к примеру, когда священник, вместо того чтобы посвятить хлеб и вино специальному богослужению в таинстве Тайной вечери (что означает лишь изъятие этого хлеба и вина из общего пользования, чтобы символизировать, т. е. напомнить людям об их искуплении страданиями Христа, чье тело было распято и кровь пролита на кресте за наши прегрешения), утверждает, что, после того как он произнес слова нашего Спасителя: это – мое тело и это – моя кровь, хлеб перестает быть хлебом, а становится телом Христа, хотя получатель этого хлеба ни зрением, ни каким-либо другим чувством не воспринимает в этом хлебе ничего такого, чего бы не было в нем до посвящения. О египетских чародеях, о которых говорится, что они обратили жезлы в змей и воду в кровь, предполагается, что они лишь создавали у зрителей обман чувств, вызывая у них иллюзии того, чего не было, однако они считались волхвами. Но что мы должны были бы думать о них, если бы никаких змей не получилось из их жезлов и из заколдованной ими воды не получилось бы никакой крови и вообще ничего другого кроме воды, и все же они нагло утверждали бы перед царем, что то, что выглядит жезлами, суть змеи и то, что выглядит, как вода, на самом деле есть кровь? Это было бы одновременно как колдовством, так и ложью. И однако в своем указанном ежедневном акте священники делают то же самое, превращая святые слова в известный вид колдовства, которое не создает ничего нового для внешних чувств, и тем не менее они нагло настаивают перед нами на том, будто произнесенные ими слова обратили хлеб в человека, мало того, в Бога, и они требуют, чтобы люди поклонялись этому хлебу, как если бы он был самим Христом, объединяющим в своем лице Бога и человека, что является грубейшим идолопоклонством. Ибо если для священников служило бы достаточным оправданием в идолопоклонстве их утверждение: этот хлеб не есть хлеб, а Бог, то почему же не могло бы таким же оправданием служить для египтян, если бы они стали нагло утверждать, что порей и лук, которым они поклонялись, не есть порей и лук, а божество под их видом или подобием. Слова: это Мое тело равнозначительны словам: это символизирует или представляет Мое тело и являются обычной фигурой речи. Брать же это буквально является злоупотреблением. А если уже понимать это буквально, то это нельзя распространить дальше, чем на тот хлеб, который сам Христос освятил Своими собственными руками. Ибо Христос никогда не говорил, что всякий хлеб, о котором какой-либо священник когда-либо произнесет слова: это мое тело или это тело Христа, то этот самый хлеб немедленно будет пресуществлен. Да и римская церковь не устанавливала этого пресуществления до папства Иннокентия III, не больше пятисот лет назад, когда власть папы достигла своего апогея, а мрак эпохи был настолько велик, что люди не различали хлеба, который им был дан для еды, особенно если на нем была изображена фигура Христа на кресте. Последнее делалось как бы с целью, чтобы заставить людей верить, будто освященный хлеб пресуществлен не только в тело Христа, но и в дерево Его креста и что они в сакраменте съели то и другое.
Подобное же колдование вместо освящения совершается при таинстве крещения. Колдовство состоит здесь в злоупотреблении именем Бога в каждом лице и во всей Троице в целом и в осенении себя крестным знамением при каждом имени. Прежде всего при освящении воды священник говорит: заклинаю тебя, создание воды, именем заклинаю тебя, создание воды, именем всемогущего Бога Отца и именем нашего Господа, Иисуса Христа, Его единородного сына и силой Святого Духа, чтобы ты стал а заклиненной водой, чтобы ты прогнала рать врага, искоренила и вытеснила врага и т. д. То же самое при освящении соли, которая должна быть примешана к святой воде: чтобы ты стала заклиненной солью, чтобы все призраки и плутовство хитрого дьявола улетучились и покинули то место, которое будет окроплено тобой, и чтобы всякий нечистый Дух был заклинен тем, кто придет судить живых и мертвых. То же самое при освящении елея: чтобы вся армия врага, вся рать дьявола, все покушения и призраки сатаны могли быть отражены и прогнаны этим творением елея. А что касается младенца, которого надлежит крестить, то он подвержен многим колдовствам. Прежде всего у церковной двери священник трижды дует в лицо младенца, приговаривая: изыйди из него, нечистый Дух, и дай место Святому Духу. Как будто бы все младенцы, до того как подует священник, одержимы демонами. Далее, перед вступлением в церковь, священник говорит, как и раньше: заклинаю тебя и т. д. выйти из этого раб а Божия и удалиться от него. И это изгнание духов повторяется снова до акта крещения. Эти и некоторые другие формы колдовства практикуются вместо благословения и освящения при совершении таинств крещения и Тайной вечери, в которых всякая вещь, служащая этим святым церемониям (за исключением оскверненной слюны священника), имеет некоторую установленную форму изгнания духов.
От этого колдовства не свободны также и другие церемонии, как например при венчании, при соборовании, при посещении больных, при освящении церквей и кладбищ и т. п. постольку, поскольку и при этих церемониях имеется употребление заколдованной воды и елея, злоупотребление крестом и святыми слонами Давида: asperges me domine hysopo (окропи меня, господи, иссопом) как вещами, имеющими силу прогнать призраки и воображаемых духов.
Другое общее заблуждение проистекает от ложного толкования слов: вечная жизнь, вечная смерть и вторая смерть. Ибо хотя мы ясно читаем в Священном Писании, что Бог сотворил Адама для вечной жизни, но условно, т. е. при том условии, если он не нарушит повелений Господа. Ибо вечная жизнь не была присуща человеческой природе, а являлась результатом действия древа жизни, от которого Адам имел право есть, пока он не согрешил. Далее нам рассказывается в том же Священном Писании, что после своего грехопадения Адам был изгнан из рая, дабы он не ел от древа жизни и не стал жить вечно, и что страдания Христа являются искуплением греха всех тех, кто верует в него, и, следовательно, восстановлением вечной жизни для всех верующих и только для них одних. Несмотря на это прямое указание Священного Писания, мы имеем в течение долгого времени вплоть до наших дней далеко отличное от этого учение, а именно, будто всякий человек обладает вечной жизнью по Своей природе, поскольку Его душа бессмертна, так что пламенный меч при входе в рай, хотя и преграждает человеку путь к древу жизни, не мешает ему однако обладать тем бессмертием, которого Бог лишил Его за Его грех. Точно так же этот меч, по смыслу указанного же учения, не делает для человека необходимой жертву Христа, чтобы снова обресть вечную жизнь, и следовательно не только верующие и праведники, но также нечестивцы и язычники будут пользоваться вечной жизнью без всякой смерти, тем паче без второй и вечной смерти. Чтобы отделаться от этого вывода, говорят, что под второй и вечной смертью подразумевается вторая и вечная жизнь, но в муках – фигура, которая никогда не употребляется, за исключением этого именно случая.
Все это учение основано исключительно на некоторых, наиболее темных местах Нового Завета, которые, однако, при сопоставлении их с общей целью Писания приобретают достаточно ясный и отличный от указанного смысл и не являются необходимой частью христианской веры. В самом деле, предположив, что, когда человек умирает, остается лишь Его труп, то разве не может Бог, сотворивший Своим словом живых существ из безжизненных праха и глины, разве не может он так же легко воскресить труп к новой жизни и продлить Его жизнь вовеки или другим Своим словом заставить Его снова умереть? Слово душа означает в Писании или жизнь, или живое существо, а тело в соединении с душой означает живое тело. В пятый день творения Бог сказал: да произведет вода reptile animae viventis, пресмыкающихся, имеющих в себе душу живую. Английский перевод гласит: имеющих жизнь. И дальше сказано: Бог сотворил китов и omnem animam viventem, что в английском переводе передается словами: и всякое живое существо. Точно так же говорится о человеке, что Бог создал Его из праха земного и вдунул в лицо Его дыхание жизни и factus est homo in animam viventem, т. e. и стал человек живым существом. А когда Ной вышел из ковчега, Бог сказал, что он не будет больше поражать omnem animam viventem, т. е. всякое живое существо. И во Второзаконии 12, 23 сказано: не есть крови, ибо кровь есть душа, т. е. жизнь. Если бы под душой подразумевалась бестелесная субстанция с обособленным от тела бытием, то из только что приведенной цитаты можно было бы умозаключать, что душой обладает не только человек, но и всякое живое существо. Однако, что души верующих должны не в силу Своей собственной природы, а по милости Божьей остаться в Своих телах с момента воскресения и вовеки, – это, как я полагаю, я уже достаточно доказал на основании Писания в гл. XXXVIII. А что касается тех мест Нового Завета, где говорится, что кто-нибудь будет брошен телом и душой в геенну огненную, то подразумевается не что иное, как тело и жизнь, т. е. что соответствующие нечестивцы будут брошены живыми в вечный огонь геенны.
Через это именно окно входит темное учение, прежде всего о вечных муках и затем о чистилище, и, как следствие отсюда, учение о привидениях умерших людей, которые якобы бродят особенно в освященных, уединенных и темных местах; через это же окно входят учения об изгнании духов и заклинании призраков, как и вызывание умерших людей, а также учение об индульгенциях, т. е. об изъятии на время или навсегда от огня чистилища, где эти бестелесные субстанции, как утверждается, они начинаются горением и делаются годными для принятия на небо. Ибо до эпохи нашего Спасителя люди, зараженные демонологией греков, жили в том убеждении, что души людей суть субстанции, отличные от их тел, и что поэтому по смерти тела душа всякого человека, благочестивого или нечестивого, должна где-то существовать в силу Своей собственной природы, а не в силу сверхъестественного дара Божия, который при этом не предполагался. Учители церкви долгое время колебались насчет того, где именно находится то место, в котором души должны были бы пребывать до их воссоединения с их телами при воскресении, предполагая некоторое время, что они находятся под алтарями. Однако впоследствии римская церковь нашла более выгодным построить для них это самое чистилище, которое некоторыми другими церквами было в последнем веке разрушено.
Рассмотрим теперь тексты Писания, которые на первый взгляд как бы подтверждают те три ошибки, которые я здесь затронул. Что касается тех текстов, которые привел кардинал Беллармин в пользу существования в настоящем Царства Божия, управляемого папой (причем приводимые им тексты имели по видимости наибольшую доказательную силу), то я на них уже ответил, выяснив, что Царство Божие, установленное Моисеем, прекратилось с избранием Саула и что после этого времени первосвященник собственной властью никогда не назначал царя. То, что первосвященник совершил по отношению к Гофолии, было им сделано не по Его собственному праву, а по праву сына Гофолии, молодого царя Иоаса. Соломон же по собственному праву удалил первосвященника Авиафара от священства и поставил на Его место другого. Из всех текстов, приведенных в доказательство того, что Царство Божие при посредстве Христа находится уже в этом мире, труднее всего возразить не на те, которые приведены Беллармином или другим представителем римской церкви, а на те, которые цитируются Безой, считающим начало Царства Божия с момента воскресения Христа. Однако я не знаю, принадлежит ли, по Его мнению, верховная церковная власть в государстве Женевы консистории пресвитерианской церкви (а следовательно, и всякой пресвитерианской консистории во всяком государстве) или государям и другим гражданским суверенам? Ибо в тех местах, где существует пресвитерианская форма церковного управления, пресвитерианские консистории не в меньшей степени, чем папа во всемирном масштабе, претендовали на право отлучать от церкви Своих собственных королей и на роль верховных руководителей в вопросах религии.
Вот это место (Марк 9, 1): истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Это место, понятое буквально, удостоверяет, что или некоторые из тех людей, которые были в окружении Христа в то время, еще живы, или же, что Царство Божие должно существовать ныне в настоящем мире. Но тогда имеется другое место, более трудное. Ибо, когда апостолы, после воскресения нашего Спасителя и непосредственно перед Его вознесением, спросили нашего Спасителя, говоря: не в сие ли время, господи, восстановляешь ты царство Израилю? он им ответил: не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и буде темне (мартирами) свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Этим наш Спаситель сказал следующее: мое царство еще не пришло, и вы не должны знать, когда оно придет, ибо оно должно прийти, как тать в ночи; но я снизошлю на вас Святой Дух, от которого вы примете силу, чтобы свидетельствовать перед всем миром (Своими проповедями) о моем воскресении и сотворенных мной делах и о том учении, которому я учил, с тем чтобы они уверовали в меня и ждали вечной жизни и моего вторичного пришествия. Как же это можно согласовать с тем взглядом, что царство Христа наступило с Его воскресением? И как согласовать с этим взглядом то, что говорит апостол Павел (Первое Послание к фессалийцам 1, 9, 10): что они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, где ожидать с небес Сына Его значит ждать, когда он придет, чтобы быть царем во власти, чего не требовалось бы, если бы Его царство тогда уже существовало. Мало того, если Царство Божие началось (как это утверждает Беза на основании приведенного им места, Марк 9, 1) с момента воскресения, то какой же смысл имеет для христиан говорить в Своих молитвах все время с момента воскресения Христа: да приидет Царствие Твое? Ясно поэтому, что слова апостола Павла не так должны быть истолкованы. Некоторые из стоящих здесь (говорит наш Спаситель) не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божье, пришедшее в силе. Если это царство должно было прийти в момент воскресения Христа, то почему сказано некоторые из стоящих, а не все стоящие? Ведь они все еще жили в момент воскресения Христа.
Но пусть те, которые требуют точного истолкования этого текста, сначала истолкуют подобные слова нашего Спасителя, сказанные апостолу Петру относительно апостола Иоанна (от Иоанна 21, 22): если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? На основании этих слов пронеслось между апостолами, что апостол Иоанн не умрет. Однако это предположение не было ни подтверждено как хорошо обоснованное, ни отвергнуто как плохо обоснованное этими словами Христа, а слова эти были оставлены как непонятное высказывание. Та же трудность имеется также в приведенном тексте апостола Марка. И если позволительно строить догадки насчет смысла этого места на основании того, что непосредственно за ним следует как здесь, так и у апостола Луки, где те же слова повторяются, то можно утверждать с некоторой вероятностью, что приведенные у апостола Марка слова имеют отношение к Преображению Господню, которое описывается в непосредственно следующих стихах, где сказано, что по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом и т. д.
Таким образом указанные апостолы видели Христа во славе и величии таким, каким он должен прийти, так что они были в большом страхе. И таким образом исполнилось обетование нашего Спасителя путем видения, ибо все выше рассказанное было видением, как это с вероятностью можно заключить из апостола Луки, который рассказывает ту же самую историю и говорит, что Петр и бывшие с ним отягощены были сном. С наибольшей же достоверностью это можно заключить из Матвея 17, 19 (где эта же история опять рассказывается). Ибо наш Спаситель приказал им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Как бы однако там ни было, отсюда нельзя почерпать аргумента в доказательство того, что Царство Божие началось до дня суда.
Что же касается некоторых других текстов (сверх тех, которые приводит Беллармин), которые приводятся в доказательство власти папы над гражданскими суверенами, как, например, что те два меча, которые Христос и Его апостолы имели у себя, были духовным и светским мечом, и их, по утверждению сторонников верховной церковной власти, апостол Петр получил от Христа, или что из двух светил большее означает папу, а меньшее короля, то с таким же успехом можно было бы заключить из первого стиха Библии, что под небом подразумевается папа, а под землей – король. Все эти доводы суть не доказательства на основании Библии, а непристойное издевательство над государями, вошедшее в моду с того времени, когда уверенность пап в своем величии возросла настолько, что они стали презирать всех христианских королей и наступать на шею императорам, насмехаясь над ними и над Писанием, как сказано в 90-м псалме: на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
Что касается обрядов освящения, то хотя они в наибольшей Своей части зависят от усмотрения и суждения правителей церкви, а не от Писания, однако эти правители обязаны давать в этом отношении такие наставления, каких требует природа самих актов, например, чтобы церемонии, слова и жесты были скромны и значительны или по крайней мере соответствовали достоинству акта. Когда Моисей освящал скинию, жертвенник и относящиеся к ним сосуды (Исход 40), он помазал их елеем, который Бог велел приготовить для этой цели, и они стали священными. Не было при этом никакого изгнания духов и привидений. Так же Моисей (гражданский суверен Израиля), освящая Аарона и Его сыновей, омыл их водой (без изгнания духов), облек их в одежды и помазал их елеем, и они были освящены, чтобы служить в качестве священников. И это было скромным очищением и напряжением их, прежде чем он представил их Богу в качестве Его служителей. Когда царь Соломон (гражданский суверен Израиля) освящал построенный им храм (2-я Книга Царей 8), он стал перед всем собранием израильтян и, благословив их, вознес благодарность Богу за то, что он внушил Его Отцу мысль построить этот храм, а ему самому дал в Своей милости возможность привести эту мысль в исполнение. Затем он молился Богу, чтобы Он принял этот храм, хотя и не соответствующий Его бесконечному величию, и чтобы Он услышал молитвы Его рабов, вознесенные внутри этого храма или (если молящиеся находятся вдали) вне его; и наконец, Соломон вознес тук мирных жертв, и храм был освящен. Не было здесь никакой процессии; царь спокойно стоял на своем первоначальном месте; не было заклинаемой воды, не было asperges me (окропи меня) и другого нелепого применения слов, сказанных по другому поводу, а была лишь скромная и разумная речь и такая, которая больше всего приличествовала поводу, а именно принесению Богу в дар нового храма, посвященного Его имени.
Мы не читаем, чтобы апостол Иоанн изгонял духов из воды Иордана, а Филипп из воды той реки, в которой он крестил евнуха; мы не читаем также, что какой-нибудь пастырь во времена апостолов брал бы свою слюну и прикладывал к носу человека, которого следует крестить, говоря in odorem suavitatis, т. е. во благоухание. В этом обряде не могут быть оправданы никаким авторитетом ни нечистоплотность церемонии слюны, ни легкомысленное применение слов Писания.
Для доказательства того положения, будто души, отделившиеся от тела, живут вечно, причем не только души избранных в силу особой милости Бога и не только в смысле восстановления для верующих вечной жизни, утерянной благодаря грехопадению Адама и восстановленной смертью нашего Спасителя, по также и души отверженных, т. е. для доказательства того положения, будто бы бессмертие есть свойство, естественно вытекающее из сущности человеческого рода, независимое от другой милости Бога, кроме той, которая вообще дарована человеческому роду, – для доказательства этого приводятся разные тексты, которые на первый взгляд действительно подтверждают это положение. Однако когда я сравниваю эти тексты с текстом из Иова гл. 14, приведенным мной выше (в гл. XXXVIII), то указанные тексты представляются мне более подверженными разным толкованиям, чем слова Иова.
И прежде всего это слова Соломона (Экклезиаст 12, 7): и возвратится прах в землю, чем он и был; а Дух возвратится к Богу, который дал его. Этот текст, однако, может быть вполне истолкован в том смысле (если нет другого текста, говорящего против такого толкования), что только один Бог (но не человек) знает, что делается с человеческим духом, когда человек умирает. И тот же Соломон в той же книге (Экклезиаст 3, 20, 21) формулирует то же изречение в том смысле, в котором я Его истолковал. Вот Его слова: все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает: Дух сынов человеческих восходит ли вверх и Дух животных сходит ли вниз, в землю? Это, значит, знает только один бог. И обычно в случаях, когда мы чего-нибудь не понимаем, мы употребляем фразу: Бог в есть что и Бог в есть где. Место из бытия 6, 21: и ходил Енох перед Богом; и не стало его, потому что Бог взял его, которое в Послании к евреям 11, 5 так объясняется: Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стал о Его потому, что Бог переселил его; ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу, – это место говорит о бессмертии тела так же, как и бессмертии души, но в то же время доказывает, что этого переселения сподобляются те, которые угождают Богу, а не все люди, включая и нечестивых; и что такое переселение обусловлено милостью Бога, а не природой человека. С другой же стороны, как можно истолковать, если не держаться буквального смысла, следующие слова Соломона (Экклезиаст 3, 9): у часть сынов человеческих и участь животных – одна участь; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом; потому что все – суета! По буквальному смыслу этих слов нет естественного бессмертия души, но это нисколько не противоречит той вечной жизни, которой избранные должны наслаждаться в силу милости Бога. И изречение (гл. 4, ст. 3): а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, т. е. блаженнее тех, кто живет или жил, было бы жестоким изречением, если бы душа всех тех, которые жили, была бессмертна, ибо в этом случае выходило бы, что иметь бессмертную душу хуже, чем не иметь никакой души. И далее (гл. 9, ст. 6): живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, т. е. по естеству и до воскресения тел из мертвых.
Другое место, по видимости говорящее в пользу естественного бессмертия души, есть то, где наш Спаситель говорит, что Авраам, Исаак и Иаков живы. Однако это сказано в смысле обетования Бога и в смысле уверенности в воскресении указанных праотцев, а не в смысле фактической жизни, т. е. это сказано в том же смысле, в котором Бог сказал Адаму, что в тот день, когда он вкусит от запретного дерева, он непременно умрет. С этого дня и дальше он на протяжении почти тысячи лет был смертным человеком в силу произнесенного над ним приговора, но не мертвым в смысле исполненного приговора. Точно так же и Авраам, Исаак и Иаков были в то время, когда говорил Христос, живыми по обетованию, но не являются фактически живыми до дня воскресения из мертвых. И история богача (?) и Лазаря ничего не говорит против этого, если мы их будем рассматривать как параболы (каковыми они действительно являются).
Однако имеются другие места в Новом Завете, в которых бессмертие по-видимому прямо приписывается нечестивым. Ибо очевидно, что они должны воскреснуть ко дню суда. Кроме того, говорится во многих местах, что грешники должны быть ввергнуты в вечный огонь, должны быть подвергнуты вечным мукам, вечным наказаниям и что червь совести никогда не умрет. Все это разумеется в словах вечная смерть, которая обыкновенно интерпретируется как вечная жизнь в муках. И однако же я нигде не нахожу, чтобы человек должен был жить в муках вечно. И мне также представляется несправедливым сказать, что Бог, который является отцом милосердия, который творит на небесах и на земле все, что ему угодно, который имеет в Своей власти сердца всех людей, который определяет их действия и их волю и без свободного дара которого человек не имеет склонности ни к добру, ни к раскаянию в прегрешениях, – что этот Бог будет карать человеческие прегрешения на протяжении бесконечного времени и такими жестокими пытками, какие только люди могут себе представить или даже не могут себе представить. Мы должны поэтому рассмотреть, что подразумевается под вечным огнем и другими подобными фразами Писания.
Я уже показал, что Царство Божье при посредстве Христа начинается в день суда, что в этот день верующие снова воскреснут со славными и духовными телами и будут подданными в этом царстве Христа, что эти воскресшие верующие не будут ни жениться и выходить замуж, ни есть и пить, как они это делали, будучи в естественных телах, но будут жить вовеки в их индивидуальной личности без той специфической вечности, обусловленной непрерывной преемственностью поколений. Я показал также, что отверженные также воскреснут, чтобы получить наказание за их грехи, точно так же что тела тех избранных, которые будут жить в тот день в их земных телах, внезапно изменятся и станут духовными и бессмертными. Но что тела отверженных, составляющих царство сатаны, будут также славными и духовными телами или что они будут подобны Божьим ангелам, которые не пьют, не едят и не производят потомства, или что они будут жить вечно в их индивидуальных личностях, как будет жить всякий верующий человек или как жил бы Адам, если бы он не грешил, – это не подтверждается никаким местом Библии, за исключением мест относительно вечных мук, которые, однако, могут быть истолкованы иначе. Отсюда можно заключить, что подобно тому как избранные после воскресения будут возвращены к тому состоянию, в котором находился Адам до грехопадения, точно так же отверженные будут находиться в том состоянии, в котором Адам и Его потомство находились после грехопадения, с той лишь разницей, что Адаму и тем из Его потомства, которые будут верить в Бога и покаются, Бог обещал искупителя, но не тем, которые умрут в Своих грехах, т. е. отверженными.
В свете сказанного тексты, в которых упоминаются вечный огонь, вечные муки, никогда не умирающий червь, не противоречат учению о второй и вечной смерти в собственном и естественном значении слова смерть. Огонь и мучения, приготовленные в геенне, тофете или в каком бы то ни было месте для нечестивых, могут продолжаться вечно, и эти места могут никогда не иметь недостатка в нечестивцах, которые должны быть подвергнуты мучениям, однако это не значит, что всякий нечестивец или один какой-нибудь будет подвергаться мучениям вечно. Ибо грешники, оставленные в том состоянии, в котором они были после грехопадения Адама, могут и после воскресения из мертвых жить так, как они жили до Своей смерти, могут жениться, выходить замуж и иметь грубые и тленные тела, какие люди имеют теперь; и следовательно, они могут непрерывно производить потомство, как и раньше. Ибо в Писании нет ни одного места, которое говорило бы против такого предположения. В самом деле, когда апостол Павел говорит о воскресении из мертвых (Первое Послание к кор. 15), то он разумеет воскресение для вечной жизни, а не воскресение для наказаний. И о воскресении в первом смысле он говорит: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется в естественном теле, восстает в духовном теле. Ничего из всего этого не может быть сказано о телах тех, кто воскреснет, чтобы подвергнуться наказанию. Точно так же и наш Спаситель, когда он говорит о природе человека после воскресения, разумеет воскресение для вечной жизни, а не для наказания. Лучшим свидетельством в пользу сказанного является текст от Луки 20, 34, 35, 36: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят. И умереть даже не могут; ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Чада сего века, находящиеся в том состоянии, в котором оставил их Адам, будут жениться и выходить замуж, т. е. будут развращены и размножатся из поколения в поколение, что является бессмертием рода, а не личным бессмертием. Они не сподобятся достигнуть того века и абсолютного воскресения из мертвых. Они воскреснут лишь на короткое время в качестве жителей того века и лишь для того, чтобы получить достойное возмездие за свое неповиновение. Избранные являются единственными сынами воскресения, т. е. единственными наследниками вечной жизни, лишь они одни не могут уже умереть; это они равны ангелам и суть сыны божии, а не отверженные. Для отверженных остается после воскресения вторая и вечная смерть, а промежуток между воскресением и их второй и вечной смертью является для них лишь временем наказания и мучений, временем, которое будет продолжаться благодаря последовательной смене поколений грешников до тех пор, пока человеческий род будет продолжать размножаться, т. е. вечно.
На этом учении о бессмертии душ, отделившихся от тела, зиждется учение о чистилище. Ибо если мы предполагаем, что вечная жизнь может быть лишь результатом милости Бога, то нет другой жизни, кроме жизни тела, и нет бессмертия до воскресения. Из текстов канонического Писания Ветхого Завета, на которые Беллармин ссылается в доказательство существования чистилища, это прежде всего место (2-я книга царств 1, 12), где говорится о посте Давида по поводу смерти Саула и Ионафана, а также (2-я Книга Царств 3, 35) по поводу смерти Авенира. Этот пост, говорит Беллармин, имел целью выпросить кое-что от Бога для указанных лиц после их смерти, ибо когда Давид постился о выздоровлении своего собственного ребенка, то лишь только он узнал, что ребенок умер, он попросил есть. Ввиду того что души имеют обособленное от тела бытие и ничего нельзя приобрести постом для душ, которые находятся или на небесах, или в аду, то отсюда следует, что имеются некоторые души умерших людей, которые не находятся ни на небесах, ни в аду. Поэтому должно иметься какое-то третье место, которое является чистилищем. И при помощи таких грубых натяжек Беллармин старается использовать эти места, чтобы доказать существование чистилища, между тем как очевидно, что церемония оплакивания и поста, если она совершается по поводу смерти людей, жизнь которых была невыгодна плакальщикам, совершается в целях воздания чести покойникам; а если эта церемония совершается по поводу смерти людей, от жизни которых плакальщики извлекали для себя благо, то это диктуется последним соответственной утратой. Таким образом Давид воздал честь Саулу и Авениру Своим постом, а при смерти своего собственного ребенка он снова утешился принятием обычной пищи.
В других местах, которые Беллармин цитирует из Ветхого Завета, нет и намека на доказательство. он приводит всякий текст, в котором имеются слова: гнев, или огонь, или горение, или очищение, если только кто-либо из отцов церкви хотя бы в какой-нибудь проповеди риторически применял Его к учению о чистилище, ставшему уже догматом веры. Так, например, он ссылается на первый стих гл. 37 псалмов: Господи! не в ярости твоей обличи меня и не во гневе твоем наказывай меня. Какое отношение имело бы это к чистилищу, если бы Августин не применял слова ярость к огню ада, а слова гнев к огню чистилища? И где указание на чистилище в псалме 66, 12: мы прошли через огонь и воду, и ты привел нас к сырому месту и в других подобных текстах (при помощи которых наставники того времени стремились украсить или расширить свои проповеди и комментарии), ловко притянутых за волосы для указанных целей?
Однако Беллармин ссылается на другие места Нового Завета, на которые не так легко ответить. И прежде всего место из Матвея 12, 32: если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни всем веке, ни в будущем. Беллармин считает чистилище тем будущим веком, в котором могут быть прощены некоторые грехи, которые в сем веке не были прощены, и это против той очевидности, что имеются лишь три века: один от сотворения мира до потопа, разрушенный этим самым потопом и названный в Писании старым веком: другой – от потопа до дня суда, являющийся нынешним веком и подлежащий разрушению огнем; а третий, который будет продолжаться со дня суда и вовеки и который называется будущим веком и в котором, как все согласны, не будет никакого чистилища. И поэтому будущий век и чистилище – несовместимы. Но каков же тогда смысл приведенных слов нашего Спасителя? Сознаюсь, что их очень трудно примирить со всеми теми учениями, которые ныне единодушно приняты. Да и не стыдно признаться в том, что глубина Писания слишком велика, чтобы ее можно было исследовать коротким человеческим умом. Тем не менее я осмеливаюсь предложить вниманию наиболее ученых теологов то толкование, на которое наводит самый текст. И прежде всего ввиду того, что сказать слово против Духа Святого, являющегося третьим лицом в Троице, значит говорить против церкви, в которой пребывает Святой Дух, то мне представляется, что в приведенном тексте проводится сравнение между кротостью нашего Спасителя, терпеливо сносившего все оскорбления, нанесенные ему, пока он сам учил мир, т. е. пока он был на земле, и строгостью пастырей после него против тех, которые стали бы отрицать их авторитет, исходивший от Святого Духа. Наш Спаситель как будто хочет вышеприведенными словами сказать: вы, которые отрицаете Мою власть, мало того, вы, которые распнете меня, будете прощены Мной, как только вы вернетесь ко Мне путем покаяния. Но если вы будете отрицать власть тех, которые будут учить вас впоследствии силой Святого Духа, то они будут неумолимы и не простят вас и будут преследовать вас в этом веке и оставят вас без отпущения грехов (хотя бы вы вернулись ко Мне, если только вы не вернетесь также к ним), с тем чтобы вы (поскольку это зависит от них) подвергались наказанию в будущем веке. И таким образом, эти слова могут быть поняты как пророчество или предсказание относительно тех времен, которые затем настали в христианской церкви. Или если не таков смысл этого текста (ибо я не считаю свое толкование непреложным для таких трудных мест), то может быть после воскресения будет предоставлена возможность покаяния для некоторых грешников. И с таким толкованием согласуется как будто другое место Писания. Ибо принимая во внимание слова апостола Павла: иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Кто-нибудь, пожалуй, мог бы отсюда заключить, как это некоторые и сделали, что во времена апостола Павла был обычай принимать крещение для мертвых (подобно тому как верующие в наше время являются поручителями за веру детей, которые сами еще неспособны верить) в качестве ручательства за умерших друзей, что они готовы повиноваться и признать нашего Спасителя Своим царем при Его втором пришествии, и тогда прощение грехов в будущем веке не нуждается в чистилище. Однако в обоих этих толкованиях так много парадоксального, что я им не доверяю и предлагаю их вниманию людей, наиболее сведущих в Писании, лишь затем, чтобы спросить этих последних, нет ли более ясного места, говорящего против этих толкований. Я лишь настолько ясно обозреваю Писание, чтобы видеть, что ни в этом, ни в каком-либо другом тексте нет ни слова чистилище, ни самого этого предмета и вообще ничего, что доказывало бы необходимость какого-либо места для души вне тела, ни для души Лазаря в течение тех четырех дней, когда он был мертв, ни для душ тех, о которых римская церковь утверждает, что они подвергаются мучениям в чистилище. Ибо Бог, который мог вдохнуть жизнь в кусок глины, имеет ту же возможность дать снова жизнь мертвому человеку и превратить Его бездыханный и истлевший труп в славное, духовное и бессмертное тело.
Другое место находится в Первом Послании к кор. 3, где сказано, что здание тех, которые строят на правильном основании из сена и соломы, погибнет, однако сами они спасутся, но так, как бы из огня. Беллармин полагает, что этот огонь и есть огонь чистилища. Слова эти, как я уже говорил раньше, являются намеком на слова Захария: и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Слова эти сказаны о пришествии Мессии в силе и славе, т. е. в день суда, и о сожжении мира сего, при котором избранные не погибнут, а будут очищены, т. е. откажутся от Своих ошибочных учений и традиций и будут таковы, как будто все заблуждения спалены, и они будут затем призывать имя Бога. Точно так же говорит апостол о тех, которые, придерживаясь основы: Иисус – Христос, будут строить на ней ошибочные учения, что они не будут истреблены тем огнем, который обновит мир, а пройдут через этот огонь к спасению, но так, что они сознают свои прежние заблуждения и откажутся от них. Строители – это пастыри, основание – это догмат: Иисус есть Христос. Солома и сено – это ложные выводы, сделанные из этого догмата вследствие невежества или слабости: золото, серебро и драгоценные камни – это их истинные учения, а их очищение – это отказ от их заблуждений. Во всем этом нет и намека на сожжение бестелесных, т. е. нетленных, душ.
Третьим местом является цитированное выше место из Первого Послания к кор. 15 относительно крещения для мертвых, из которого Беллармин заключает, во-первых, что молитвы за умерших не бесполезны, и отсюда он дальше заключает, что имеется огонь чистилища. Однако и тот и другой вывод неправильны. Ибо из многих толкований слова «крещение» он в первую очередь принимает то, согласно которому под крещением подразумевается (метафорически) крещение покаянием, и что в этом смысле люди тогда крещены, когда постятся, молятся и раздают милостыню; так что крещение для мертвых и молитвы о мертвых – одно и то же. Но это – метафора, примера которой мы не находим ни в Писании, ни в каком другом словоупотреблении и которая также не согласуется со всем контекстом и намерением Писания. Креститься согласно словоупотреблению Писания (Марк 10, 38 и Лука 12, 50) значит окунуться в свою собственную кровь, как Христос на кресте и как большинство апостолов за то, что они свидетельствовали о Нем. Но нелепо сказать, что молитва, пост и раздача милостыни имеют какое-либо сходство с окунанием. Это же слово крещение Матвей 3, 11 (место, которое, по видимости, говорит некоторым образом в пользу существования огня чистилища) употребляет в смысле очищения огнем. Очевидно однако, что упоминаемые здесь огонь и очищение есть то же, о чем говорит пророк Захария (см. гл. 13, ст. 9) и после него апостол Петр (Первое Послание 1, 7), а также апостол Павел (Первое Послание 3, 13). Но апостол Петр и апостол Павел говорят о том огне, который будет при втором пришествии Христа, а пророк Захария о дне суда, и поэтому место у Матвея может быть истолковано в том же смысле, и тогда не будет никакой необходимости в огне чистилища.
Другим толкованием крещения для мертвых является то, которое я выше привел и которому Беллармин отводит второе место в отношении степени Его правдоподобности, и из этого толкования он также заключает о полезности молитвы для мертвых. Ибо если те, которые не слышали о Христе или не веруют в него, могут быть после воскресения приняты в царство Христа, то не бесполезно, чтобы после их смерти их друзья молились о них до их воскресения. Однако, если мы и согласимся с тем, что Бог может, внимая молитвам верующих, обратить к себе некоторых из тех, которые не слышали проповеди Христа и, следовательно, не могли Его отвергнуть, если мы согласимся с тем, что милосердие таких молящихся не может не произвести своего действия, то это все же не говорит в пользу существования чистилища; ибо одно дело воскреснуть от смерти к жизни, а другое дело воскреснуть от чистилища к жизни, что является воскресением от жизни к жизни, от жизни в мучениях к жизни в радости.
В-четвертых, Беллармин приводит место из Матвея 5, 25: мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Беллармин толкует это как аллегорию, в которой под обидчиком подразумевается грешник; под соперником и судьей подразумевается Бог; под путем – жизнь, под темницей – гроб, под слугой – смерть, из чего Беллармин заключает, что грешник воскреснет не для вечной жизни, а для второй смерти, пока он не выплатит последнего гроша или пока Христос не заплатит за него Своими страданиями, которые являются полным выкупом за всякого рода грехи, как за меньшие, так и за большие грехи, ибо и те и другие в равной мере искупаются этими страданиями.
Пятое место – это место из Матвея 5, 22: всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной. Из этих слов Беллармин выводит три вида грехов и три вида наказаний, причем лишь последний грех будет наказан геенной огненной, и, следовательно, меньшие грехи будут наказаны за гробом, в чистилище. На это умозаключение нет и намека в каком бы то ни было из толкований, данных до сих пор выше цитированным словам. Разве в загробной жизни имеются для разбора дел и вынесения приговора по разным преступлениям такие же различные судебные инстанции, как те, которые существовали у евреев во времена нашего Спасителя, а именно суд и синедрион? Разве не принадлежит всякая юрисдикция Христу и Его апостолам? Для понимания этого текста поэтому мы не должны рассматривать Его изолированно, а в контексте как с предшествующими, так и с последующими словами. Наш Спаситель в этой главе толкует закон Моисея. Этот закон евреи тогда считали исполненным, когда они не нарушали Его грамматического смысла, хотя бы они нарушали содержание или смысл, вложенный в закон законодателем. И между тем как евреи полагали, что шестая заповедь нарушается лишь убийством человека, а седьмая лишь тогда, когда мужчина спит с чужой женой, наш Спаситель говорит им, что внутренний гнев человека на своего брата, если этот гнев напрасен, есть человекоубийство. Вы слышали (говорит он) закон Моисея: «не убивай»; кто же убьет, подлежит суду судей или синедриона; я же говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно или сказавший ему «рака» или «безумный» повинен в человекоубийстве и будет наказан в день суда, когда будут восседать Христос и апостолы, геенной огненной. Таким образом вышеприведенные слова употреблены не для различения между разными преступлениями, разными судилищами и разными наказаниями, а чтобы осудить то различие между грехом и грехом, которое евреи выводили не из различия устремленности воли к повиновению Богу, а из различия их земных судилищ, и чтобы показать им, что тот, кто стремится вредить своему брату, хотя бы это стремление выявилось лишь в брани или совершенно не выявилось, будет ввергнут в геенну огненную судьями и синедрионом, которые в день суда не будут представлять собой различных судилищ, а одно и то же. В соображении этого я не могу понять, что может быть отсюда выведено в доказательство существования чистилища.
В-шестых, Беллармин цитирует от Луки 16, 9: приобретайте себе друзей Богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Эти слова Беллармин приводит в доказательство значения призывания умерших святых. Однако смысл этих слов ясен, а именно, что мы должны Своим Богатством приобретать друзей среди бедных и этим приобрести их молитвы, пока они живы. Подающий бедному дает взаймы Господу.
В-седьмых, Беллармин цитирует от Луки 23, 42: помяни мя, Господи, когда приидешь в Царствие Твое. Поэтому, говорит Беллармин, может быть отпущение грехов и после земной жизни. Однако же заключение неправильно. Наш Спаситель простил злодея уже тогда, а при своем втором пришествии он вспомнит о нем, чтобы воскресить Его снова к вечной жизни.
В-восьмых, он цитирует Деяния 2, 24, где апостол Петр говорит о Христе: но Бог воскресил его, освободив от мук смерти, потому что ей не возможно было удержать его. Это место Беллармин толкует как сошествие Христа в чистилище, чтобы освободить некоторые души от их мучений, между тем как очевидно, что освобожден был сам Христос. Именно Его не могли удержать смерть или гроб; а не душа в чистилище. Но если принять во внимание то, что говорит Беза в Своих примечаниях к этому тексту, то ясно будет, что вместо мук должно стоять узы, и тогда нет никакого основания искать в этом тексте намека на чистилище.
Глава XLV
О демонологии и о других пережитках религии язычников
Действие, произведенное на органы зрения светлыми телами, по одной ли прямой линии или по многим линиям, путем ли отражения от темных тел или путем преломления при проходе сквозь прозрачные тела, производит в живых существах, которых Бог наделил такими органами, представление об объекте, от которого действие происходит, и это представление называется зрением, причем нам кажется, что оно не есть простое представление, а самое тело вне нас; точно таким же образом, как, когда человек сильно надавливает на свой глаз, ему представляется свет вне Его и перед ним, которого (света) никто, кроме него, не воспринимает, так как в действительности нет такого предмета вне его, а Его заставляет так думать лишь движение противодействия во внутренних органах, которое давит вовне. И если движение, произведенное этим давлением, продолжается и после того, как обусловивший Его объект удален, то мы имеем то, что называется представлением и памятью и (во сне, а иногда при сильном расстройстве органов благодаря болезни или возбужденному состоянию) сновидением или грезой. Обо всем этом я уже вкратце говорил во второй и третьей главах.
Так как природа зрения не была никогда открыта древними мнимыми естествоиспытателями, а тем менее теми, которые вообще не размышляют о предметах, столь далеких (как эта отрасль знания) от их повседневного обихода, то трудно было людям думать, что эти образы представления и ощущения представляют собой что-либо иное, чем реально вне нас существующие предметы. При этом некоторые люди полагают, что эти объекты (так как они исчезают неизвестно куда и неизвестно как) являются абсолютно бестелесными, т. е. имматериальными, или формами без материи, цветом и фигурой без соответствующего тела, являющегося их носителем, и что они могут надеть на себя (как платье) воздушные тела, чтобы сделать их, когда они хотят, видимыми для телесного глаза; а другие говорят, что они являются телами и живыми существами, но сделанными из воздуха или из другого тонкого и эфирного материала, который сгущается, когда эти существа хотят стать видимыми. Но представители того и другого взгляда сходятся на том, чтобы называть эти существа демонами. Как будто покойники, которые им снятся, пребывают не в их собственном мозгу, а в воздухе, или на небе, или в аду и являются не фантомами, а привидениями, что так же неразумно, как если бы кто-нибудь сказал, что он видел в зеркале свое собственное привидение или привидение звезд в реке или называл бы видимый лик солнца, величиной приблизительно около фута, демоном или привидением того великого солнца, которое озаряет Своим светом весь видимый мир. В силу указанного люди боялись этих фантомов, как существ, обладающих неведомой, т. е. неограниченной, властью делать им добро или причинять зло, и следовательно, дали возможность правителям языческих государств регулировать этот страх установлением демонологии (чем были особенно заняты или чем особенно прославились поэты как главные жрецы языческой религии) в целях достижения общественного мира и необходимого для этого повиновения подданных. При этом жрецы некоторых демонов делали добрыми, а других – злыми, пришпоривая подданных первыми к соблюдению законов и пользуясь вторыми как уздой, чтобы удержать подданных от нарушения законов.
Каковы были те предметы, которым они давали имя демонов, видно отчасти из генеалогии их богов, написанной Гезиодом, одним из наиболее древних поэтов Греции, а отчасти из других историй, о чем я уже кое-что сказал в двенадцатой главе этого трактата.
При помощи Своих колоний и завоеваний греки распространили сферу влияния своего языка и литературы на Азию, Египет и Италию и как необходимое следствие из этого также сферу влияния Своей демонологии или (как апостол Павел это называет) своего учения о дьяволах. Благодаря этому учением о дьяволах оказались зараженными также и евреи, как те, которые жили в Иудее, так и те, которые жили в Александрии и в других местах, по которым евреи были рассеяны. Но евреи не давали имени демонов одинаково как добрым, так и злым духам (как это делали греки), а лишь одним злым. Добрых же демонов они называли Духом Божьим и считали пророками тех, в чье тело такие демоны входили. Коротко говоря, все необыкновенное, если в хорошем смысле, евреи приписывали духу Божьему, а если в плохом смысле, – какому-нибудь демону, кαкοδαίμων, злому духу, т. е. дьяволу. Поэтому они называли беснующимися, т. е. одержимыми бесами, тех, кого мы называли сумасшедшими или лунатиками; или таких, которые страдают падучей; или тех, которые говорили что-нибудь, что евреи вследствие непонимания считали абсурдом. Точно так же они о неопрятных в известной степени лицах говорили, что они одержимы нечистым духом, а о немом человеке, что он одержим немым дьяволом. О Иоанне Крестителе ввиду необычайности Его постов они говорили, что «в нем бес». А нашему Спасителю, говорившему, что кто соблюдает слово его, тот не увидит смерти вовек, они сказали: теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки умерли; и снова, когда наш Спаситель сказал, что они ищут убить Его, они ответили Ему: не бес ли в Тебе, кто ищет убить Тебя? Отсюда вытекает с очевидностью, что евреи придерживались тех же взглядов относительно призраков, а именно что они – не призраки, т. е. идолы воображения, а реальные объекты и независимые от представления.
Однако, если это учение неверно (спросит кто-нибудь), почему же наш Спаситель не восстал против него и не опровергал его? Мало того, почему он по разным поводам употребляет такие формы речи, которые как будто подтверждают это учение? На это я отвечаю, что там, во-первых, где Христос говорит, что Дух не имеет ни плоти, ни костей, то хотя он этим подтверждает, что духи существуют, однако он не отрицает, что они тела. А там, где апостол Павел говорит: мы воскреснем, как духовные тел а, он признает природу духов, но лишь в том смысле, что они являются телесными духами, что нетрудно понять. Ибо воздух и многие другие вещества являются телами, хотя они не мясо, не кости и не какое-нибудь другое грубое тело, которое можно различать глазом. Однако, когда наш Спаситель говорит бесу и приказывает ему выйти из человека, то разве такая речь не является совершенно не к месту, если под бесом понимать болезнь, как безумие или бешенство, или какой-нибудь телесный дух? Разве болезнь может слышать? Или разве может телесный Дух пребывать в теле из мяса и костей, полном уже жизненных и органических духов? Нет ли поэтому духов, которые не имеют тела и не являются одним лишь представлением?
На первый из этих вопросов я отвечаю, что приказание, обращенное нашим Спасителем к безумию или бешенству, которое он лечил, не более неуместно, чем было Его приказание лихорадке, ветру и морю, ибо и эти последние неспособны слышать, или не более неуместно, чем было приказание Бога свету, тверди небесной, солнцу и звездам, когда Он приказал им быть. Ибо они не могли слышать, пока они не существовали. Но эти речи вовсе не неуместны, ибо они обозначают силу Слова Господня. Не более неуместно поэтому приказание выйти из человеческого тела, обращенное к безумию или бешенству (под названием бесов, под каким они тогда обычно подразумевались). Что касается второго, относительно их бестелесного естества, то я не заметил ни одного места в Писании, из которого можно было бы заключить, что кто-либо был когда-нибудь одержим другим телесным духом, кроме своего собственного, при помощи которого он двигается.
Апостол Матвей (гл. 4, 1) говорит, что непосредственно после того, как на нашего Спасителя спустился святой Дух в форме голубя, наш Спаситель был возведен в пустыню, и то же самое повторяется (Лука 4, 1) в следующих словах: Иисус, преисполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню, где очевидно, что под Духом подразумевается Святой Дух. Это не может быть истолковано как одержимость, ибо Христос и Святой Дух являются одной и той же субстанцией, следовательно, при этом не имеет места одержимость одной субстанции или одного тела другим телом. И если в следующих стихах говорится, что Христос был поведен дьяволом в Иерусалим и поставлен на крыле храма, то разве мы можем заключить, что он был одержим дьяволом и поведен туда силой? И опять: возведши Его на высокую гору, дьявол показал ему оттуда все царства вселенной. И тут мы не должны поверить, что Иисус был одержим или принужден дьяволом силой; точно так же мы не должны поверить, что существует где-либо настолько высокая гора (согласно буквальному смыслу приведенной цитаты), что дьявол мог показать с ее вершины всю вселенную. Какой же другой смысл может иметь это место, если не тот, что Иисус по собственному побуждению пришел в пустыню и что Его передвижения вверх и вниз из пустыни в Иерусалим и оттуда на гору были видением? Этому соответствует также фраза апостола Луки, что Иисус был поведен в пустыню не духом, а в духе, между тем как относительно Его возведения на гору и на крыло храма апостол Лука повторяет выражение апостола Матвея, как этого требует природа видения.
Далее, когда апостол Лука говорит о Иуде Искариоте, что в него вошел сатана, после чего он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им Христа, то на это можно ответить, что под вхождением сатаны (т. е. врага) подразумевается враждебное и предательское намерение продать своего Господа и Учителя. Ибо, подобно тому как под Святым Духом часто в Писании подразумеваются добрые намерения и хорошие склонности, данные Святым Духом, точно так же под вхождением сатаны могут подразумеваться нечестивые мысли и намерения врагов Христа и Его учеников. Ибо, если нельзя сказать, что сатана вошел в Иуду прежде, чем последний возымел свое злое намерение, то нелепо было бы также сказать, что Иуда сначала стал врагом Христа в душе, а после этого вошел в него сатана. Поэтому вхождение сатаны и Его преступное намерение было одно и то же.
Однако, если не существует имматериального духа и человеческие тела не могут быть одержимы телесным духом, то почему же (можно опять спросить) наш Спаситель и Его апостолы не проповедовали этого народу в таких ясных выражениях, чтобы у людей не оставалось никаких сомнений на этот счет? Однако такие вопросы, как эти, выходят за пределы того, что необходимо для спасения христианина. Ибо точно так же люди могли бы спросить, почему Христос, который мог бы дать всем людям веру, благочестие и всякого рода моральные качества, дал их лишь некоторым, а не всем, и почему он предоставил исследование естественных причин и научной истины естественному разуму и прилежанию людей и не дал всего этого всем людям или кому-нибудь из них путем сверхъестественного откровения, точно так же можно было бы задавать всякие другие вопросы этого рода, на которые можно тем не менее привести правдоподобные и соответствующие духу религии основания. Ибо подобно тому как Бог, когда он привел израильтян в обетованную землю, не обеспечил им раз навсегда мира и безопасности путем покорения всех народов вокруг них, а оставил многие из этих народов как угрозу, чтобы пробудить время от времени религиозный Дух и религиозное рвение евреев, точно так же и наш Спаситель, ведя нас к своему Царству Небесному, не устранил всех трудностей вопросов мироздания, а оставил их, с тем чтобы упражнять наше трудолюбие и разум. Задачей Его проповеди было лишь показать нам ясный и прямой путь к спасению, именно веру в догмат, что он был Христом, Сыном Живого Бога, посланным в мир, что бы пожертвовать Собой за наши грехи, а при своем втором пришествии царствовать во славе над Своими избранными и спасти их от их врагов вовеки. На пути к этому спасению мнение об одержимости духами или о привидениях не является препятствием, хотя оно дает некоторый повод сойти с пути истины и следовать Своим собственным измышлениям. Если мы требуем от Писания ответа на все те вопросы, возникновение которых может смутить нас при исполнении Господних заповедей, то мы можем с таким же основанием жаловаться на Моисея за то, что он не установил момента сотворения таких духов так, как он установил время сотворения земли, моря, людей и зверей.
Резюмирую. Я нахожу в Писании указание на то, что существуют ангелы и духи, добрые и злые, но я не нахожу в нем указания на то, чтобы они были бестелесными, как бывают те призраки, которые люди видят в темноте, или во сне, или в видении и которые римляне называют spectra и считают демонами. И я нахожу, что имеются телесные духи (хотя топкие и невидимые), но никакое человеческое тело не было одержимо или обитаемо, ими и что тела святых будут такими духовными телами, как их называет апостол Павел.
Тем не менее противоположное учение, а именно мнение о том, что существуют бестелесные духи, в такой мере преобладало до сих пор в церкви, что на нем построена практика заклинания бесов (т. е. изгнание бесов заклинанием), которая (хотя редко и робко применяемая) не совсем еще отошла в прошлое. То обстоятельство, что в первобытной церкви было много одержимых бесами и мало сумасшедших и других больных странными болезнями, между тем как в наше время мы слышим много о сумасшедших, а также видим много таковых и мало слышим об одержимых бесами, происходит не от изменения природы, а от изменения имен. Однако другой вопрос – это тот, чем объясняется то обстоятельство, что раньше апостолы, а после них в течение некоторого времени наставники церкви исцеляли такие странные болезни, между тем как в наше время мы не наблюдаем, чтобы пастыри церкви совершали нечто подобное, а также почему в наше время нет власти у всякого искренне верующего делать все то, что делали верующие тогда, т. е. то, о чем мы читаем (Марк 16, 17): именем Христа изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, пить без вредных последствий смертоносный яд и исцелять больных возложением рук, и все это без всяких других слов, кроме слов: именем Иисуса. И вероятно, это объясняется тем, что эти необычайные дары давались церкви лишь в течение того времени, пока люди верили целиком Христу и ожидали своего блаженства лишь в Его будущем Царстве, и следовательно, люди были лишены этих сверхъестественных даров Бога, когда они стали искать власти и Богатства и, полагаясь на свою собственную хитрость, стали добиваться царства мира сего.
Другим пережитком язычества является поклонение иконам, не установленное ни Моисеем в Ветхом Завете, ни Христом в Новом Завете и даже не принесенное с собой язычниками, а лишь сохранившееся у них, после того как они присоединились к Христу.
До того как наш Спаситель стал проповедовать, общей религией язычников было почитание в качестве богов тех образов, которые остаются в мозгу от воздействия внешних тел на наши органы чувств и которые обыкновенно называются идеями, идолами, призраками, фантазиями, так как они являются представлениями о тех внешних телах, которые их вызывают, и не имеют в себе ничего реального, не больше чем те предметы, которые стоят перед нами во сне. И вот почему апостол Павел говорит: мы знаем, что идол – ничто. Этим он не хотел сказать, что изображение из металла, камня или дерева есть ничто, а лишь, что то, чему они в изображениях поклонялись, чего боялись и что считали Богом, есть простая фикция, имеющая свое место, обитель, движение или бытие лишь в мозговых движениях. И воздавание этим призракам божеских почестей есть то, что в Писании называется идолопоклонством и бунтом против Бога. Ибо так как Бог был царем евреев, а Его наместником сначала был Моисей, а затем первосвященник, то если бы народу было разрешено поклоняться и молиться образам (являющимся представлениями их собственной фантазии), он бы перестал подчиняться истинному Богу, с которым Его изображения не имеют никакого сходства, а также Его первым министрам, Моисею и первосвященникам, и каждый человек из народа управлял бы сам собой соответственно Своим собственным вкусам, что вследствие отсутствия единения повело бы к крайнему разрушению государства и к собственной гибели народа. Поэтому первым законом Бога было, чтобы евреи не почитали Богами alienos deos, т. е. богов чужих народов, а лишь одного истинного Бога, который соизволил говорить с Моисеем и через него дать им законы и наставления в целях обеспечения им мира и спасения от их врагов. А вторым законом было, чтобы они не делали себе никакого изображения собственного изобретения для поклонения. Ибо мы свергаем одного государя, когда подчиняемся другому государю, как в том случае, когда этот второй государь поставлен соседним народом, так и в том, когда он поставлен нами самими.
В пользу установления икон для поклонения или в пользу установления их в местах богослужения приводятся прежде всего два примера: херувимы над кивотом Завета Господня и медный змей; во-вторых, некоторые тексты, в которых нам заповедано почитать некоторые существа за их отношение к Богу, а также почитать подножие Бога, и, наконец, некоторые тексты, которыми санкционировало религиозное почитание священных предметов.
Но прежде чем я перейду к критической проверке доказательности этих текстов, я должен объяснить, что следует понимать под поклонением и что под изображениями и идолами.
Я уже показал в гл. XX этого трактата, что почитать – значит высоко ценить могущество какого-нибудь лица и что эта оценка измеряется сравнением почитаемого лица с другими. Но так как ничто не может быть сравниваемо с Богом в отношении могущества, то было бы небогопочитанием, а богохульством, если бы мы Его могущество считали менее чем бесконечным. И такое почитание по самой Своей природе есть нечто скрытое, внутреннее чувство. Но внутренние мысли людей, проявляющиеся вовне в их словах и действиях, являются знаками нашего почитания, и эти слова и действия называются поклонением, по латыни cultus. Поэтому молиться кому-нибудь, клясться Его именем, повиноваться ему, быть ревностным и угодливым в служении ему, коротко говоря, все слова и действия, которые означают боязнь обидеть, желание угодить, являются поклонением независимо от того, искренни ли те слова и действия или притворны; и так как они являются знаками почитания, то они называются почитанием.
Поклонение, которое мы проявляем по отношению к тем, которых мы считаем только людьми, например по отношению к королям и к людям, власть имущим, есть гражданский культ. Поклонение же, которое мы проявляем по отношению к тому, кого мы почитаем Богом, в каких бы словах, церемониях, жестах или других действиях это ни выражалось, есть религиозный культ. Падать ниц перед королем, если падающий считает Его лишь человеком, есть гражданский культ. Тот же, кто лишь снимает шапку в церкви по той причине, что он считает церковь Храмом Божьим, совершает религиозный культ. Те, которые ищут разницу между гражданским и религиозным культом не в намерении поклоняющихся, а в словах δουλεία и λατρεία, ошибаются. Ибо имеются двоякого сорта слуги. Одни – это такие, которые находятся в абсолютной власти их господ, как, например, рабы, взятые на войне, и их потомство; тела таких рабов не находятся в их собственной власти (жизнь их в такой мере зависит от воли их господ, что они могут лишиться ее при малейшем неповиновении), и они покупаются и продаются, как скот, и такие рабы назывались δούλοι, а их служба δουλεία. Другой сорт слуг – это те, которые служат добровольно (за плату или в надежде получить какое-нибудь благодеяние от их господ). Такие слуги называются θητες, т. е. домашней челядью, на службу которой господин имеет право лишь постольку, поскольку это оговорено в заключенном между ними соглашении. Эти два сорта слуг имеют то общее между собой, что они работают по заданиям другого. И слово λάτρις есть название, общее для тех и других и обозначающее человека, работающего для другого в качестве ли раба или в качестве вольнонаемного слуги. Слово λατρεία обозначает, таким образом, всякую службу вообще, между тем как слово δουλεία обозначает лишь службу невольников или состояние рабства. И оба эти слова употребляются вперемежку в Библии (для обозначения нашей службы Богу): δουλεία – потому что мы Господни рабы, λατρεία – потому что мы служим Богу. И во всякого рода службе заключается не только повиновение, но и поклонение, т. е. такие действия, жесты и слова, которые обозначают почитание.
Образ (в самом строгом значении слова) есть подобие какого-либо видимого предмета, в этом смысле фантастические формы, призраки или иллюзии, которые видимые тела представляют зрению, являются лишь образами. Таков, например, вид человека при Его отражении или преломлении в воде, или вид солнца, или звезд, как они представляются нашему зрению непосредственно в воздухе. Все эти видимые предметы ни сами по себе не реальны, ни то место, в котором они нам представляются, и их величины и фигуры не тождественны с величинами и фигурами объекта; и они изменчивы, варьируя в зависимости от органов зрения или благодаря применению стекол; и они часто присутствуют в пашем воображении и представляются нам во сне, когда объект отсутствует; или они меняют свой цвет и форму, как предметы, зависящие исключительно от нашей фантазии. И это именно те образы, которые первоначально и наиболее соответственно названы идеями и идолами. Названия эти взяты из греческого языка, на котором ε’ίδω означает видеть. Они называются также фантазиями, что на том же языке означает призраки. И от этих образов одна из способностей человеческой природы названа воображением. И отсюда очевидно, что от невидимого предмета нет и не может быть образа.
Очевидно также, что не может быть образа от бесконечного объекта. Ибо все образы и призраки, произведенные действием на нас видимых вещей, имеют фигуру, а фигура есть величина, ограниченная во всех направлениях. Вот почему не может быть образа ни Бога, ни человеческой души, ни духов, а могут быть лишь образы видимых тел, т. е. тел, имеющих свет в себе или освещенных светящимися телами.
И подобно тому как человек может рисовать в своем воображении формы, которых он никогда не видел, составляя фигуры из частей различных тварей, как, например, поэты создают Своих центавров, химер и других чудовищ, которых они никогда не видели, точно так же он может дать материал этим формам, создавая такие фигуры из дерева, глины или металла. И эти тоже называются образами не в силу сходства их с каким-нибудь реальным предметом, а в силу сходства с некоторыми фантастическими обитателями мозга – творца этих фигур. Но между этими идолами, как они первоначально существуют в мозгу, и ими же, как они нарисованы, вырезаны в дереве и отлиты в металле, имеется сходство, в силу чего о материальных телах, созданных искусством, можно сказать, что они являются образами фантастических идолов, созданных природой.
Однако в более широком смысле под словом «образ» понимается также представительство одной вещи другой. Так, например, земной суверен может быть назван образом Бога; и низшее должностное лицо может быть названо образом земного суверена. И очень часто язычники в своем идолопоклонстве мало заботились о сходстве их материальных идолов и их фантазии, и все же первые назывались образами последних. Ибо неотесанный камень ставился как изображение Нептуна и различные другие образы, далеко отличные от тех форм, в которых они представляли себе Своих богов. И в наши дни мы видим многие изображения Девы Марии и других святых, не имеющие никакого сходства между собой и не соответствующие чьему-либо представлению и все же достаточно хорошо служащие той цели, для которой они воздвигнуты. А целью этой было представить лиц, упомянутых в истории одними лишь именами, к которым каждый человек приурочил бы умственный образ Его собственного творчества или не приурочил бы никакого. И следовательно, образ в широком смысле этого слова есть или подобие, или представительство какого-нибудь видимого объекта, или, как это большей частью бывает, и то и другое.
Однако имя идола имеет в Писании более широкое значение, обозначая также солнце, звезды или другое видимое или невидимое создание, если они почитаются Богами.
Показав, что значит поклоняться и что значит образ, я перейду теперь, объединив эти понятия, к рассмотрению того, что понимается под тем идолопоклонством, которое запрещается второй Заповедью и в других местах Писания.
Поклоняться образу – значит охотно совершать те внешние действия, в которых выявляется почитание или материала, из которого сделан образ, т. е. дерева, камня, металла, или другого материала, или того призрака, для получения подобия или представительства которого материалу приданы были форма или фигура, или почитание того и другого как единого одушевленного тела, состоящего из материала и призрака, как бы из тела и души.
Стоять с непокрытой головой перед человеком, обладающим могуществом и властью, или перед троном государя, или в других таких местах, где государь приказывает быть в таком виде в Его отсутствии, значит воздавать этому человеку или государю гражданские почести, ибо это является знаком почитания не стула или места, а лица и не является идолопоклонством. Но если бы тот, кто это делает, предположил бы, что душа государя находится в стуле, и обратился бы к стулу с петицией, то это были бы религиозный культ и идолопоклонство.
Просить короля о том, что он способен для нас сделать, хотя бы мы падали перед ним ниц, значит воздавать ему лишь гражданские почести, ибо мы признаем этим за королем лишь человеческое могущество; но молиться ему о ниспослании хорошей погоды или о чем-нибудь, что может для нас сделать один только Бог, является религиозным культом и идолопоклонством. С другой же стороны, если король принуждает кого-нибудь к таким действиям под угрозой смертной казни или другого сурового телесного наказания, то это не является идолопоклонством. Ибо поклонение, которого требует себе суверен под угрозой наказания, не означает, что тот, кто повинуется этому, искренно почитает суверена как Бога, а лишь то, что он желает спасти себя от смерти или от бедственной жизни; а то, что не является знаком искреннего почитания, не есть поклонение и потому не является идолопоклонством. И нельзя также сказать, что тот, кто это делает, скандализирует своего брата или кладет камень преткновения перед ним. Ибо как бы мудр и умен ни был тот, кто поклоняется в такой форме, никто другой не может из Его внешних действий заключить, что он эту форму поклонения одобряет, а лишь то, что он это делает из страха и что это является не Его актом, а актом Его суверена. Поклоняться Богу в каком-нибудь специальном месте, или обратившись лицом к образу, или к определенному месту, не значит поклоняться этому месту или образу или почитать таковые, а значит лишь признать их святыми, т. е. признать этот образ или место изъятыми из обиходного пользования. Ибо таков смысл слова святой, а именно, что оно не подразумевает нового качества в месте или в образе, а лишь новое отношение благодаря приурочению того или другого к богу. Вот почему поклонение Богу в вышеуказанной форме не является идолопоклонством. Оно не является идолопоклонством в такой же мере, как не было идолопоклонством поклоняться Богу перед медным змеем или как не было идолопоклонством со стороны евреев, когда они, находясь вне собственной страны, обращались лицом (когда молились) к храму Иерусалима, или как не было идолопоклонством со стороны Моисея, когда он снял свою обувь перед Горящей Купиной на месте, примыкавшем к горе Синаю. Так как это место Бог избрал как место, куда он являлся, чтобы дать законы народу Израиля, то это было святым местом не в силу присущей ему святости, а в силу выделения Его в пользование богу.
В такой же мере не было идолопоклонством со стороны христиан поклоняться Богу в церквах, которые были однажды торжественно посвящены Богу для этой цели властью царя или других истинных представителей церкви. Но поклоняться Богу как одухотворяющему такие образы или присутствующему в таких местах, т. е. поклоняться ограниченному месту как бесконечной субстанции, есть идолопоклонство, ибо такие конечные боги являются лишь идолами воображения, не имеющими никакой реальности, и они называются в Писании именами: суета, ложь и ничто. Точно так же является идолопоклонством почитать образы и места не как нечто одухотворенное или обитаемое Богом, а как нечто, напоминающее о Боге или о каком-нибудь Его деянии, если эти образы или места посвящены Богу или установлены властью частных лиц, а не властью тех, которые являются нашими верховными пастырями. Ибо заповедь гласит: не делай себе никакого изображения. Бог повелел Моисею сделать медного змея, Он Его сделал не себе, и поэтому (это деяние.) не было против Заповеди. Но сотворение золотого тельца Аароном и народом было идолопоклонством, так как это не было сделано по поручению Бога, причем это было идолопоклонством не только потому, что они считали этого тельца Богом, а также потому, что они сотворили Его для религиозного потребления, не имея на то полномочий ни от Бога, их суверена, ни от Его наместника, Моисея.
Язычники почитали в качестве богов Юпитера и других, которые были людьми, совершившими, может быть, при жизни великие и славные дела, а детьми Бога они считали разных мужчин и женщин, предполагая, что они родились от бессмертного Бога и смертного человека. Это было идолопоклонством, так как они установили такую религию по собственному усмотрению, не будучи на то уполномочены Богом, ни Его вечным законом разума, ни Его позитивным законом, данным в откровении. Но хотя наш Спаситель был человеком, относительно которого мы также веруем, что Он был бессмертным Богом и Сыном Бога, однако это не является идолопоклонством, так как эта вера не зиждется на нашей фантазии или на нашем суждении, а на Слове Божьем, данном нам через откровение в Писании. А что касается культа в форме таинства причащения, то если слова Христа: это Мое тело означают, что он сам и то, что имеет вид хлеба в Его руке, и не только это, но все кажущиеся куски хлеба, которые когда-либо были освящены священниками или когда-либо будут освящены священниками, являются столькими же телами Христа, которые, однако, все вместе составляют одно тело, если указанные слова означали именно это, тогда таинство причащения не является идолопоклонством, ибо это таинство тогда санкционировано нашим Спасителем. Но если этот текст не означает этого (ибо нет другого текста, который подтвердил бы такое предположение), тогда указанный обряд является обоготворением человеческого установления и, следовательно, является идолопоклонством. Недостаточно в самом деле сказать: Бог может пресуществлять хлеб в тело Христа, ибо и язычники считали Бога всемогущим и могли бы на этом основании с не меньшим успехом оправдывать свое идолопоклонство, утверждая, как и другие, что их дерево и камень пресуществлены в Бога всемогущего.
Поскольку имеются люди, утверждающие, что боговдохновенность есть вхождение в человека Святого Духа, а не приобретение божьих даров учением и размышлением, то я полагаю, что они стоят перед опасной дилеммой. Ибо если они не поклоняются тем людям, которых считают боговдохновенными, то впадают в неблагочестие, не обоготворяя сверхъестественного присутствия Бога. С другой же стороны, если они поклоняются этим людям, они совершают идолопоклонство, ибо апостолы никогда не допустили бы такого поклонения по отношению к себе. Поэтому наиболее правильно будет верить, что когда в Писании рассказывается, что на апостолов спустился голубь или что Христос дохнул на них, давая им Святой Дух, или что Святой Дух давался возложением рук, то под этим разумеется, что Богу угодно было пользоваться или приказать пользоваться всем этим, как знаками своего обетования содействовать тем лицам в их рвении проповедовать Его царство, а также содействовать тому, чтобы их беседы не были оскорбительны, а назидательны для других.
Помимо идолопоклоннического культа образов бывает еще скандальный культ их, который тоже является грехом, но не идолопоклонством. Ибо идолопоклонство есть культ, выражающийся в знаках внутреннего и искреннего почитания, но скандальный культ представляет собой лишь кажущееся почитание и может часто сочетаться с внутренним и глубоким отвращением как к образам, так и к фантастическим демонам или идолам, которым они посвящены. Такого рода культ имеет Своим источником лишь страх смерти или другого жестокого наказания, и тем не менее он является грехом со стороны тех, которые Его практикуют, если последние являются людьми, на которых другие смотрят как на светочи, указывающие им путь. Ибо, идя по их стопам, они могут лишь споткнуться и упасть на путях религии. Примеры же тех людей, которых мы не уважаем, не оказывают на нас никакого влияния и предоставляют нас нашей собственной старательности и осторожности и, следовательно, не являются причиной нашего падения.
Если поэтому пастырь, законно призванный учить и направлять других, или кто-либо другой, пользующийся большим уважением как ученый, из страха внешне поклоняется идолу и при этом не показывает своего страха и отвращения так же явно, как и свое поклонение, то такой человек Своим мнимым одобрением идолопоклонства скандализирует других. Ибо другие, наблюдая действия своего учителя или того, чьи знания они высоко ценят, приходят к заключению, что эти действия сами по себе законны. И такой скандал есть грех и совращение. Но если это делает человек, не являющийся пастырем и не пользующийся высокой репутацией за свою ученость в вопросах христианской религии, и кто-нибудь следует Его примеру, то это не является совращением, так как второй не имел никакого основания следовать примеру первого. И если он ссылается на этот пример, то это с Его стороны лишь пустой предлог, чтобы оправдать себя перед людьми. Ибо если необразованному человеку, находящемуся во власти короля-идолопоклонника или идолопоклоннического государства, приказывают под угрозой смерти поклоняться идолу и он это делает, ненавидя этот идол в душе, то он хорошо делает, хотя, если бы он имел мужество предпочесть смерть исполнению такого приказания, он бы еще лучше поступил. Но если бы то же самое сделал пастырь, взявший на себя обязанность распространять в качестве вестника Христа христианское учение между всеми народами, то это было бы не только греховным скандалом в отношении совести всех христиан, но и вероломным нарушением взятых на себя обязанностей.
Общий итог всего сказанного до сих пор в отношении культа образов сводится к тому, что всякий, поклоняющийся в образе или в каком-либо творении или Его материалу, или призраку собственной фантазии, пребывающему, как он полагает, в этом материале, или и тому и другому, или всякий верующий, что такой предмет, не имеющий ни ушей, ни глаз, слышит Его молитвы или видит Его преданность, – всякий такой совершает идолопоклонство. Тот же, кто лицемерно практикует такой культ из страха наказания, совершает грех, если это человек, пример которого может оказать влияние на Его братьев. Однако тот, кто поклоняется Творцу Вселенной перед таким образом или в таком месте, которое не было воздвигнуто и не было избрано им самим, а было предписано словом Господним, как, например, евреи поклонялись в течение известного времени Богу перед херувимами и перед медным змеем, а некоторое время также внутри Иерусалимского храма или обратившись лицом к нему, – тот не совершает никакого идолопоклонства.
Что касается теперь поклонения святым образам, реликвиям и другим предметам, как это практикуется в наши дни в римской церкви, то я утверждаю, что это ни разрешено Словом Божьим, ни внесено в римскую церковь основными догматами ее учения, а часть их была оставлена в ней при первоначальном обращения язычников, а затем поддержана, утверждена и усугублена римскими епископами.
Что касается тех доказательств, которые приводятся из Писания, а именно разные примеры, когда Бог велел поставить образы, то такие образы были поставлены не для того, чтобы народ или вообще кто-нибудь поклонялся им; они были поставлены для того, чтобы народ поклонялся самому Богу перед ними, например перед херувимами над Кивотом Завета и перед медным змеем. Ибо мы не читаем, чтобы священник или кто-либо иной поклонялся херувимам. Наоборот, мы читаем (2-я Книга Царей 18, 4), что Езекия истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что народ кадил ему. Кроме того, эти примеры не даны нам в качестве образцов для подражания так, чтобы мы тоже установили образы под тем предлогом, что мы, мол, поклоняемся Богу перед ними. Ибо слова второй Заповеди: не делай себе никакого изображения, различают между образами, которые Бог велел установить, и такими, которые мы сами устанавливаем. Нельзя поэтому приводить херувимы или медного змея как аргумент в пользу образов, выдуманных людьми, и культ, установленный Богом, в пользу культа, произвольно установленного людьми. Следует еще и то принять во внимание, что, подобно тому как Езекия разбил в куски медного змея, которому поклонялись евреи, с той целью, чтобы они этого больше не делали, точно так же и христианские суверены обязаны разбивать образы, которым их подданные привыкли поклоняться, с тем чтобы не было больше повода для такого идолопоклонства. Ибо там, где поклонение образам в настоящее время в обычае, невежественный народ действительно верит, что образы обладают божественной силой, и Его пастыри говорят ему, что некоторые из них заговорили, что на них показалась кровь и что они совершали чудеса, т. е. они полагают, что эти чудеса совершал святой, которого они идентифицируют с образом или о котором думают, что он пребывает в нем. Поклоняясь тельцу, израильтяне полагали, что они поклоняются Богу, выведшему их из Египта, и тем не менее это было идолопоклонством, так как они полагали, что или телец есть сам Бог, или имеет Бога в своем брюхе. И хотя кое-кто может считать невероятной такую тупость со стороны народа, при которой он бы мог считать образ Богом или святым и поклоняться ему в качестве такового, однако Писание нам явно говорит обратное. Ибо, когда был сделан золотой телец, народ сказал: вот Бог твой, Израиль; в Писании же идолы Лавена названы Богами. И мы ежедневно убеждаемся путем наблюдения над всякого сорта людьми, что такие люди, которые заботятся лишь о Своей утробе и о своем покое, согласны скорее верить всякой нелепости, чем беспокоить себя ее критической проверкой, считая свою веру как бы неотчуждаемой в силу субституции, пока обратное не установлено ясным и новым законом. Но из некоторых других мест церковники заключают, что позволительно изображать ангелов, а также самого Бога, так, например, из того, что Бог расхаживал по саду, что Иаков видел Бога на вершине лестницы, и из многих других видений и снов. Однако видения и сны, как естественные, так и сверхъестественные, суть лишь представления, и тот, кто рисует образ того, что он видел в видении или во сне, дает не изображение Бога, а лишь своего собственного представления, т. е. делает идола. Я не говорю, что рисовать картину, следуя Своей фантазии, есть грех, но считать ее, когда она нарисована, представительством Бога противоречит второй Заповеди и не может иметь иного употребления, как лишь быть объектом культа. И то же самое может быть сказано об изображениях ангелов и покойников, если эти изображения покойников не являются памятниками друзьям или людям, достойным памяти. Ибо такое употребление изображений не есть поклонение изображениям, а гражданское почитание лица, не существующего, а существовавшего. Но если это сделано по отношению к изображению святого на том единственном основании, что мы полагаем, что он слышит наши молитвы и доволен теми почестями, которые мы ему оказываем, между тем как он мертв и лишен всех чувств, то мы приписываем ему более чем человеческое могущество, и поэтому это является идолопоклонством. Ввиду того что ни в законе Моисея, ни в Евангелии нет никаких указаний в пользу религиозного почитания образов или других представительств Бога, которые люди себе делают, или в пользу почитания какого-либо изображения того, что на небе, на земле и ниже земли, и ввиду того, что христианские короли, являющиеся живыми представителями Бога, не должны быть почитаемы их подданными каким-либо актом, обозначающим приписывание им большего могущества, чем то, на которое способна человеческая природа, – ввиду всего этого нельзя себе представить, чтобы тот религиозный культ, который ныне в ходу, был внесен в церковь благодаря ошибочному пониманию Писания. Остается поэтому предполагать, что этот культ был оставлен в церкви благодаря тому, что при обращении в христианство язычников не были истреблены те изображения, которым эти язычники до своего обращения поклонялись.
Причиной такого оставления образов являются неумеренное уважение к их художественным достоинствам и высокие цены на них, что заставляло их собственников (хотя и обращенных и переставших поклоняться им как демонам) удержать их в Своих домах под тем предлогом, что они это делают в честь Христа, Девы Марии, апостолов и других пастырей первобытной церкви. Ибо легко было, давая образам новые имена, превратить в изображении Девы Марии и ее Сына, нашего Спасителя, то, что раньше, может быть, считалось изображением Венеры и Купидона; и точно так же можно было из Юпитера сделать Варнаву и из Меркурия Павла и т. д. А так как светское честолюбие, постепенно закравшееся в душу пастырей, внушило им желание угодить новообращенным христианам, а к тому же присоединилась и любовь к этого рода почитанию, которого они могли ждать для себя после смерти по примеру тех, которым оно уже досталось, то культ изображений Христа и апостолов становился все более и более идолопоклонническим, за тем исключением, что некоторое время после Константина разные императоры и епископы и вселенские соборы указали на незаконность этого культа и протестовали против него, но было уже слишком поздно, или они протестовали слишком слабо.
Канонизация святых является другим пережитком язычества. Она не основана на ложном понимании Писания и является не новым изобретением римской церкви, а обычаем, столь же древним, как само римское государство. Первым был канонизирован в Риме Ромул, и это на основании сообщения Юлия Прокула, который присягал перед сенатом, что Ромул говорил с ним после Своей смерти и уверял его, что он пребывает на небе и называется там Квирилом и будет покровительствовать государству их нового города. После этого сенат публично засвидетельствовал Его святость. Юлий Цезарь и другие императоры после него получили такое же удостоверение, т. е. были канонизированы как святые. Ибо к такого рода удостоверению сводится теперь обряд канонизации, представляющий собой то же самое, что и апофеоз язычников.
Наследством от римских язычников объясняется и то обстоятельство, что папы получили имя и власть pontifex maximus (верховного жреца). Это было имя того, кто после сената и народа имел в Древнем государстве Рима верховную власть регулировать все церемонии и устанавливать догматы религии. А когда Август Цезарь превратил государство в монархию, то он взял себе лишь эту должность и должность народного трибуна (т. е. верховную власть в государстве и в вопросах религии), и последующие императоры занимали ту же должность. Однако, когда жил император Константин, первый признавший и узаконивший христианскую религию, то Его исповеданию веры соответствовало предоставление регулирования вопросов религии (под Его верховным надзором) римскому епископу. Хотя ниоткуда не видно, чтобы епископ одновременно с этим получил имя pontifex (жреца), однако можно предположить, что последующие епископы присвоили себе это имя, чтобы поддержать ту власть, которую они осуществляли над епископами римских провинций. Ибо эту власть над другими епископами римские епископы имели не в силу какой-либо привилегии апостола Петра, а в силу привилегии города Рима, которую императоры всегда охотно поддерживали. Это с очевидностью доказывается тем фактом, что, когда император сделал столицей империи Константинополь, константинопольский епископ стал претендовать на одинаковую власть с римским епископом. И хотя в конечном итоге это верховенство (не без борьбы) осталось за папой и он стал pontifex maximus, однако эту власть он осуществлял лишь именем императора, и она не простиралась за пределы империи; а после того как император потерял свою власть в Риме, власть папы не простиралась дальше города Рима, хотя в Риме сам папа унаследовал власть императора. На основании указанного мы можем мимоходом заметить, что верховенство папы над другими епископами не простирается дальше территорий, в которых сам папа является гражданским сувереном, и тех территорий, где обладающий гражданской властью император явно избрал папу (подвластным ему) главным пастырем Своих христианских подданных.
Другим пережитком религии греков и римлян является ношение икон в процессии. Ибо греки и римляне также передвигали Своих идолов с места на место в особого рода коляске, специально посвященной этой церемонии, и эту коляску римляне называли thensa и vehiculum deorum (повозкой богов), и изображение помещалось в форму или раку, которую они называли ferculum. И то, что римляне называли pompa, есть то же самое, что теперь называется процессией. В соответствии с этим одной из божеских почестей, которые сенат воздал Юлию Цезарю, было то, что в помпе (процессии) во время цирковых игр он должен был иметь thensa и ferculum, священную повозку и раку, что означало быть перевозимым, как Бог, точь-в-точь как в наше время папы перевозятся швейцарцами под балдахином.
Одной из особенностей процессий как у греков, так и у римлян было ношение горящих факелов и свечей. Ибо впоследствии в этой форме воздавались почести римским императорам. Так, мы читаем, что, когда Калигула был провозглашен императором, он был перевезен из Мизены в Рим среди толпы народа, причем дороги были уставлены алтарями и скотом для жертвоприношений и горящими факелами. А о Каракалле мы читаем, что он был принят в Александрии с фимиамом, с бросанием цветов и δαδουχίαις, т. е. с факелами. Ибо δαδουχοι назывались у греков те, которые носили горящие факелы в процессиях их богов. А впоследствии набожный, но невежественный народ много раз чествовал Своих епископов такого рода помпами с восковыми свечами, а изображения нашего Спасителя и святых он чествовал постоянно в самой церкви. И таким образом вошло в обычай употреблять при богослужении восковые свечи, и это употребление было установлено некоторыми древними соборами.
Язычники имели также свою aqua lustralis, т. е. святую воду. Римская церковь подражает язычникам также в отношении святых дней. Язычники имели свои вакхании, а мы имеем соответствующие им храмовые праздники. Язычники имели свои сатурналии, а мы имеем карнавалы и свободу слуг во вторник первой недели Великого поста. Язычники устраивали процессии в честь Бога Приапа (Бога плодородия), мы вносим, воздвигаем мачту для получения приза и танцуем вокруг нее, а танцы являются одной из форм богослужения. Язычники имели свои процессии, названные ambarvalia, а мы устраиваем процессии вокруг полей в неделю о слепом. И я не думаю, что этим исчерпывается список церемоний, которые остались в церкви со времени первого обращения язычников. Это лишь все те, которые мне в данную минуту пришли на память. И я не сомневаюсь, что если кто-нибудь внимательно проследит то, что сообщается в книгах по истории относительно религиозных ритуалов греков и римлян, то он найдет еще больше старых пустых мехов язычества, которые наставники римской церкви по небрежности или в силу честолюбия наполнили снова новым вином христианства, которое не преминет со временем разорвать их.
Глава XLVI
О тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных традиций
Под философией подразумевается познание, приобретенное путем рассуждения для нахождения свойства какого либо предмета, исходя из способа его образования или возможного способа его образования, исходя из его свойства, и имеющее целью произвести, поскольку это позволяют материал и человеческие силы, действия, как их требует человеческая жизнь. Так, например, геометры от конструкции фигур находят путем рассуждения многие их свойства, а от их свойств – новые способы их конструирования, с тем чтобы можно было измерять землю и воду и в бесконечно многих других целях. Так, например, астроном на основании наблюдения восхода, захода и движения солнца и звезд в разных частях неба открывает причины смены дня и ночи и разных времен года, благодаря чему он ведет счет времени. Таковы же и разные другие науки.
Из этого определения явствует, что мы не должны считать частью философии то первоначальное знание, которое называется опытом и в котором заключается благоразумие. Ибо это знание не приобретается путем рассуждения и находится у животных, точно так же как и у человека, и оно есть лишь удержание в памяти последовательности событий прошлого; в этих случаях опускание малейшего обстоятельства, имеющего влияние на следствие, приводит к тому, что и самый благоразумный человек обманывается в своих ожиданиях, между тем как правильное рассуждение порождает одну лишь общую, вечную и непреложную истину. Мы не должны поэтому дать имя философии ложным заключениям. Ибо тот, кто рассуждает правильно и в вразумительных для него словах, никогда не может прийти к ложному заключению. Не следует называть философией также то знание, которое человек приобрел благодаря сверхъестественному откровению, ибо оно не приобретено путем рассуждения. Не следует также называть философией знание, приобретенное путем рассуждения на основе принятых на веру книг, ибо это не есть рассуждение от причины к следствию и от следствия к причине, и такое знание не есть собственно знание, а вера. Так как способность рассуждать неразрывно связана с употреблением речи, то невозможно, чтобы не было несколько общих, столь же древних, как и сам язык, истин, открытых путем рассуждения.
Дикие племена Америки не лишены некоторых добрых нравственных правил и имеют некоторые познания в арифметике, умея складывать и делить не очень большие числа, однако они в силу этого не являются философами. Ибо, подобно тому как раньше чем люди стали понимать значение хлебных злаков и виноградных лоз, или умели пользоваться ими как продуктом питания, или стали культивировать их в полях и виноградниках, то есть в то время, когда люди еще питались желудями и пили воду, уже имелись в небольшом количестве хлебные злаки и виноградные лозы, которые были рассеяны по полям и лесам, точно так же имелись спокон века различные правильные, общие и полезные умозрения, как бы естественные растения человеческого разума. Но этих умозрений было вначале очень мало, и люди жили грубым опытом. Не было никакого метода, то есть никакого посева и никакой посадки знания как такового, отдельно от плевел и диких растений – ошибок и догадок. А так как причиной такого недостатка философского знания был недостаток досуга вследствие необходимости заботиться об удовлетворении жизненных потребностей и защищать себя против соседей, то до учреждения больших государств положение не могло быть иным. Досуг есть мать философии, а государство есть мать мира и досуга. Там, где впервые были большие и цветущие города, там впервые стали заниматься философией. Гимнософисты Индии, маги Персии и жрецы Халдеи и Египта считаются наиболее древними философами; и эти страны были наиболее древними государствами. Философия не возникала у греков и у других народов Запада на протяжении всего того времени, пока их государства (не бóльшие, может быть, чем Лукка и Женева) пользовались миром лишь в периоды, когда они одинаково боялись друг друга, и были вечно заняты тем, чтобы наблюдать друг за другом. Наконец, когда война объединила многие из этих греческих мелких государств в немногие и более крупные, тогда семь человек из разных частей Греции стали пользоваться репутацией мудрых, некоторые из них за их моральные и политические изречения, а другие за их знакомство с наукой халдеев и египтян, а именно с астрономией и геометрией. Но и тогда мы еще ничего не слышим о философских школах.
После того как афиняне победой над персидскими полчищами приобрели господство на море и тем самым над всеми островами и приморскими городами архипелага как в Азии, так и в Европе и разбогатели, то те, которые не имели никакого дела ни дома, и в чужих краях могли проводить время лишь в том, чтобы (как говорит апостол Лука, Деяния, 17, 21) говорить или слушать что-нибудь новое или публично преподавать философию городскому юношеству. Каждый учитель избирал себе определенное место для этой цели. Платон избрал известные аллеи общественного пользования, названные Академией по имени некоего Академа, Аристотель – аллеи храма Пана, названные лицеем, другие избрали Стою, крытую галерею, куда купцы свозили свои товары, а иные – другие места, где они могли застать слушателей из городской молодежи. И то же самое делал Карнеад в Риме, когда он был там послом, что побудило Катона посоветовать сенату поскорее выпроводить его из Рима из боязни его деморализующего влияния на нравственность молодых людей, которые охотно слушали (как им казалось) интересные беседы.
Этим было обусловлено то обстоятельство, что место, где кто-нибудь из них учил и спорил, называлось школой (по-гречески ή σχολή, что означает досуг) и самые их беседы назывались ήδιατρίβη, что означает времяпрепровождение. Точно так же и сами философы назывались в зависимости от своего направления, а некоторые из них – по имени своей школы. Так, например, последователи Платона назывались академиками, последователи учения Аристотеля – перипатетикам и по имени той аллеи, в которой он учил, а ученики Зенона назывались стоиками от Стои, точно так, как если бы мы стали называть людей, собирающихся часто для болтовни и времяпрепровождения в Морфильде, в церкви Апостола Павла и на бирже, по имени этих мест.
Тем не менее люди были очень увлечены этим обычаем, и с течением времени он получил распространение по всей Европе и значительной части Африки, так что почти в каждом государстве создавались и поддерживались на государственный счет школы для лекций и диспутов.
В древности, как до пришествия нашего Спасителя, так и после него, имелись также школы среди евреев, но это были школы, в которых толковался их закон. Ибо хотя эти школы назывались синагогами, то есть собраниями народа, однако, поскольку в них каждую субботу читался, объяснялся и толковался закон, они не по характеру своему, а лишь по имени отличались от публичных школ, причем такие школы имелись не в одном Иерусалиме, а и в каждом языческом городе, где имелось еврейское население. Такая школа была в Дамаске, в которую Павел вошел в целях преследования христиан. Другие были в Антиохии, Икоиии и Фессалонике, куда апостол Павел вошел, чтобы диспутировать. Такова была синагога либертинцев, киринейцев, александрийцев и киликийцев и евреев из Азии, то есть школа либертинцев и евреев, бывших чужестранцами в Иерусалиме. И из этой-то школы были те, которые вступили в спор со св. Стефаном.
Какова, однако, была польза этих школ? Какое знание приобретаем мы в наши дни благодаря чтению книг этих философов и вызванным ими спорам? Тем, что мы имеем из геометрии, которая является матерью всех естественных наук, мы не обязаны этим школам. Платон, величайший из греческих философов, не принимал в свою школу тех, которые не были уже в той или иной мере знакомы с геометрией. Были многие, занимавшиеся этой наукой, к величайшему благу человеческого рода, но нигде не упоминается о школах геометров, и не было никакого особого толка геометров, и не назывались они философами.
Естественная философия тех школ была скорее фантазией, чем наукой, и изложена она бессмысленным языком, что неизбежно для тех, кто хочет учить философию, не приобретши предварительно больших знаний в геометрии. Ибо природа действует посредством движения, пути и степени которого не могут быть исследованы без знания пропорций и свойств линий и фигур. Их философия морали есть лишь описание их собственных страстей. Ибо правило нравственности вне гражданского государства есть естественный закон, а внутри такого государства – гражданский закон. И эти именно законы определяют, что честно и что бесчестно, что справедливо и что несправедливо и вообще что есть добро и что есть зло, между тем как указанные школы провозглашают правилом добра и зла свое собственное: нравится, не нравится. Последнее означает, что в вопросах морали при огромном разнообразии вкусов людей нет ничего общеобязательного, и каждый может делать то, что ему лично представляется добром, – что должно вести к ниспровержению государства. Их логика, которая должна была бы быть методом рассуждения, представляет собой лишь мудрствование над словами и всякие трюки, придуманные с целью сбить с толку тех, которые могли бы разоблачить их софизмы. Одним словом, нет такой нелепости, которой не придерживались бы некоторые из древних философов (как говорит Цицерон, который сам принадлежал к этим философам). И я полагаю, что вряд ли может быть сказано что-нибудь более нелепое в естественной философии, чем то, что мы находим в так называемой аристотелевской «Метафизике», или что-нибудь более враждебное государству, чем многое из того, что сказано в его «Политике», или что-нибудь более невежественное, чем большая часть его «Этики».
Школа евреев была вначале школой закона Моисея, который завещал (Второзаконие, 31, 10), чтобы этот закон читался перед всем народом каждый раз по прошествии семи лет в праздник Кущей, с тем чтобы народ слушал и учился. Поэтому чтение закона каждую субботу (что вошло в обыкновение после плена) не должно было иметь другой цели, кроме как ознакомить народ с теми заповедями, которым он обязан был повиноваться, и объяснить ему книги пророков. Но евреи, как это явствует из многих упреков нашего Спасителя по их адресу, исказили текст закона своими ложными комментариями и бессмысленными традициями и так мало понимали пророков, что не признали ни Христа, ни совершенных Им деяний, о чем пророчествовали пророки. Таким образом, они своими лекциями и диспутами в своих синагогах превратили учение своего закона в фантастический род философии относительно непостижимой природы Бога и духов – в философию, составленную из философии и теологии греков, смешанной с их собственными фантазиями, почерпнутыми из наиболее темных мест Писания, которые легко было истолковать в желательном для них смысле, а также из фантастических преданий их предков.
То, что теперь называется университетом, представляет собой соединение и объединение под общим управлением многих государственных школ в одном и том же городе. Три основные школы в таком университете установлены для трех профессий: для католической теологии, для римского права и для медицины. Философии же в этих университетах отведена роль служанки католической теологии. А с тех пор как в этой области установилось безраздельное господство Аристотеля, дисциплина эта перестала быть философией (природа которой не зависит от авторов), а стала аристотелизмом. Для геометрии, служащей лишь строгой истине, в университетах до самого последнего времени совсем не было места. А если кто-нибудь благодаря собственной гениальности достигал в этой науке известной степени совершенства, то его считали магом, а его искусство – чем-то бесовским.
Чтобы перейти теперь к отдельным разделам пустой философии, утвердившейся в университетах и перешедшей в церковь отчасти под влиянием Аристотеля, а отчасти вследствие умственной слепоты, я прежде всего рассмотрю их принципы. Имеется определенная philosophia prima, от которой должна зависеть всякая другая философия и задача которой состоит главным образом в правильном ограничении значений таких названий или имен, которые из всех других являются наиболее универсальными. Такие ограничения имеют своей задачей способствовать избежанию двусмысленности в рассуждении и обыкновенно называются определениями. Таковы, например, определения тела, времени, места, материи, формы, сущности, субъекта, субстанции, акциденции, силы, акта, конечного, бесконечного, количества, качества, движения, страсти и многих других слов, необходимых для объяснения человеческих понятий относительно природы тел и их производства. Объяснение (то есть установление смысла) этих и подобных терминов называется обыкновенно в школах метафизикой, так как эта часть философии Аристотеля носила этот титул. Однако школы придают этому слову иной смысл, чем оно имеет у Аристотеля. Ибо у Аристотеля под этим названием разумеются книги, написанные или помещенные после его естественной философии, школы же понимают под этим словом книги о сверхъестественной философии, ибо слово метафизика может иметь и тот и другой смысл. И в самом деле то, что здесь написано, в большей своей части настолько далеко от вразумительности и настолько идет вразрез с естественным разумом, что всякий, кто полагает, что под этим скрывается какое-нибудь содержание, должен считать это содержание чем-то сверхъестественным.
Метафизика, которая в сочетании с Писанием образует школьную теологию, говорит нам, что существуют в мире определенные сущности, отделенные от тел, которые она называет абстрактными сущностями и субстанциальными формами. Для истолкования этого жаргона требуется нечто большее, чем обычное внимание. Я извиняюсь поэтому перед теми, которые не привыкли к такого рода рассуждениям, за то, что я приспособляюсь к тем, которые питают живой интерес к ним. Мир (понимая под этим не одну землю, называющую своих поклонников мирскими людьми, но Вселенную, то есть массу всего существующего) веществен, то есть есть тело и имеет измерения величины, то есть длину, ширину и глубину. Всякая часть тела является точно так же телом и имеет те же измерения, и, следовательно, телом является всякая часть Вселенной, а то, что не есть тело, не является частью Вселенной. А так как Вселенная есть все то, что не является ее частью, есть ничто, и, следовательно, нигде не существует. Но отсюда не следует, что духи ни ч то, ибо они имеют измерения и являются поэтому реальными телами, хотя в обиходной речи имя тело дается лишь видимым и ощутимым телам, то есть таким, которые являются в некоторой степени непрозрачными. А что касается духов, то люди их обыкновенно называют бестелесными, что является более почетным именем и может быть более благочестиво применено к самому Богу, к Которому мы применяем известные атрибуты не с тем, чтобы характеризовать ими Его природу, которая непостижима, а с тем, чтобы выразить нашу волю почитать Его.
Чтобы понять, на чем основано утверждение теологов, что существуют абстрактные сущности, или субстанциальные формы, мы должны рассмотреть, что эти слова собственно обозначают. Слова служат для того, чтобы регистрировать для нас самих и сообщать другим наши мысли и представления. Из этих слов некоторые являются именами представляемых вещей, как, например, названия всех родов тел, действующих на наши чувства и оставляющих отпечаток в нашем представлении; другие являются именами самых представлений, то есть тех идей, или умственных образов, которые вызывают в нас видимые или вспоминаемые нами предметы. Опять же другие слова являются именами имен или различных форм речи, например, слова: универсальное, множественное, единственное являются именами имен. Слова же: определение, утверждение, отрицание, истина, ложь, силлогизм, вопрос, обещание, соглашение являются именами определенных форм речи. Другие служат для обозначения того, что одно имя вытекает из другого или, наоборот, что они взаимно исключают друг друга. Так, например, когда кто-либо утверждает, что человек есть тело, он этим утверждает, что имя тело есть необходимое следствие имени человек, так как и то и другое имя суть лишь различные названия одного и того жe объекта, именно человека. Эта логическая связь между указанными двумя именами обозначается связкой есть. И подобно тому, как мы употребляем глагол есть, римляне употребляют их глагол est, а греки их глагол έστί их формах. Я не могу сказать, имеют ли все другие нации мира в их языках слово, соответствующее указанным глаголам, но я уверен, что они в этом не нуждаются, ибо расстановка рядом двух имен может служить для обозначения их логической связи, если это общепринято (ибо силу словам придает обычай), так же хорошо, как и глагол есть, или быть, или суть и подобные.
И если бы оказалось, что имеется такой язык, в котором отсутствует глагол, соответствующий глаголу est, или есть, или быть, то люди, пользующиеся таким языком, были бы, однако, не менее способны делать умозаключения, выводить следствия и рассуждать обо всем, чем это делали греки и римляне. Однако что стало бы тогда с такими наиболее часто употребляемыми терминами, как сущность, существенное, существо, которые произведены от указанных глаголов, и со многими другими словами, которые зависят от вышеупомянутых терминов? Эти термины являются поэтому не именами существующих предметов, а лишь знаками, при помощи которых мы обозначаем, что мы постигаем логическую связь между одним именем или одним атрибутом и другим. Так, например, когда мы говорим: человек есть одушевленное тело, мы не так понимаем, что человек есть одно, одушевленное тело – нечто другое, а есть или бытие – нечто третье, а понимаем это так, что человек и одушевленное тело – одно и то же, ибо последовательность двух предложений: если он человек, то он одушевленное тело – есть истинная последовательность, обозначенная словом есть. Поэтому слова: быть телом, гулять, быть говорящим, жить, видеть и подобные неопределенные формы глаголов, точно так же телесность, гуляние, говорение, жизнь, зрение и другие отглагольные существительные, обозначающие то же самое, что и неопределенные формы глаголов, не являются именами чего-либо существующего, как я уже более подробно развил это в другом месте.
Но к чему такие тонкости (спросит, пожалуй, кто-нибудь) в таком сочинении, в котором я исследую лишь то, что относится к учению об управлении и повиновении? А это для той цели, чтобы люди не давали больше злоупотреблять собой тем, которые этим учением о независимых от тела сущностях, построенным на пустой философии Аристотеля, то есть бессодержательными словами, стали бы отпугивать их от повиновения законам своей страны, подобно тому, как люди отпугивают птиц от хлебного поля пустой фуфайкой, шапкой и кривой палкой. Ибо именно на этом основании они говорят об умершем и похороненном человеке, что его душа (то есть его жизнь), отделенная от тела, может бродить и быть замеченной ночью между гробами. На этом же основании они говорят, что фигура, цвет и вкус куска хлеба имеют бытие там, где нет никакого хлеба. И на таком же основании они утверждают, что вера, мудрость и другие добродетели могут быть иногда влиты, а иногда вдунуты в человека с неба, как будто добродетельные люди и их добродетели могут быть отделены друг от друга. На этом основании они утверждают еще многое другое, что служит к уменьшению зависимости подданных от верховной власти их страны. Ибо кто будет делать усилие повиноваться законам, если он ожидает, что повиновение будет в него влито или вдунуто? Или кто не будет повиноваться священнику, умеющему делать Бога, скорее, чем своему суверену, нет, даже скорее, чем самому Богу? Или кто из тех, кто боится привидений, не будет чувствовать большого уважения к тем, кто умеет делать святую воду, которая прогоняет эти привидения от него? Сказанное служит достаточным примером тех ошибок, которые были внесены в церковь сущностями Аристотеля, который, может быть, понимал всю ложность своей философии и писал ее как нечто, согласующееся с греческой религией и подкрепляющее последнюю, так как он боялся, что его может постигнуть судьба Сократа.
Впав раз в эту ошибку относительно самостоятельных сущностей, метафизики и теологи этим были втянуты во многие другие нелепости, вытекающие из этой ошибки. Ибо, так как они желают, чтобы эти формы были реальны, они вынуждены указать им некоторое место. Но так как они считают их невещественными, без всякого измерения, присущего пространственной величине, они вынуждены для поддержания своего кредита делать различение, что эти сущности на самом деле нигде не бывают circumscriptive (ограничены), а лишь definitive (определены), каковые термины являются в данном случае словами, не имеющими никакого смысла, а лишь их латинская форма скрывает их внутреннюю пустоту. Ибо всякое ограничение какого-нибудь предмета есть лишь ограничение или определение его места. Оба термина различения обозначают таким образом одно и то же. И в частности, что касается сущности человека, являющейся (как они говорят) его душой, то они утверждают, что она целиком находится в его мизинце и целиком находится во всякой другой части (как бы мала она ни была) его тела, и тем не менее во всем теле имеется не больше души, чем в каждой из этих частей. Может ли кто-нибудь думать, что можно Богу угодить такими бессмыслицами? И тем не менее во все это необходимо верить тем, которые желают верить в существование бестелесной души независимо от тела.
А когда им приходится держать ответ на вопрос, каким образом бестелесная субстанция может испытывать боль и быть пытаема огнем ада или чистилища, то они могут ответить лишь, что не дано нам знать, как огонь может сжигать души.
Кроме того, так как движение есть перемена места, а бестелесные субстанции не способны занимать места, то сторонники указанного учения бессильны показать нам, как души могут уходить отсюда без тела на небо, в ад, в чистилище и как привидения людей (и я могу прибавить – их платье, в котором привидения появляются) могут бродить ночью по церквам, кладбищам и другим местам погребения. И я себе не представляю, что они могут ответить нам на это, разве только они скажут, что они бродят definitive, а не circumscriptive, или скажут, что они бродят духовно, но не поземному, ибо такие отменные различения одинаково применимы при любой трудности.
Что касается смысла слова вечность, то указанные метафизики и теологи не хотят понимать его как бесконечную последовательность времени, ибо тогда они не были бы способны объяснить, каким образом божественная воля и предопределение будущего не предшествовали его предвидению будущего подобно тому, как действующая причина предшествует следствию или как агент предшествует действию; точно так же они не могли бы указать основания многих других их смелых взглядов относительно непостижимой природы Бога. Но они хотят учить нас, что вечность есть застывшее настоящее, nuncstans (застывшее теперь), как называют это школы, и этот термин как для нас самих, так и для кого-либо другого не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом hic-stans (застывшее здесь).
А так как, когда люди мысленно делят тело, они считают его части, а считая эти части, они считают также части заполняемого телом пространства, то, разделив тело намного частей, мы не можем не представлять себе соответствующих им многих мест; при этом мы не можем себе представить, чтобы этих частей было больше или меньше, чем соответствующие им места. Однако теологи хотят нас уверить, что благодаря всемогуществу Бога одно тело может в одно и то же время быть в разных местах и многие тела в одно и то же время в одном месте, как если бы было признанием всемогущества Бога сказать, что то, что есть, не существует, а то, что было, не было. И этим мы указали лишь малую часть тех несообразностей, которые вынуждены утверждать теологи, благодаря тому что они ведут философские споры о непостижимой природе Бога, вместо того чтобы поклоняться ей, не понимая, что атрибуты, которые мы приписываем Богу, не могут обозначить то, что Он есть, а должны лишь обозначить наше желание почитать Его наилучшими наименованиями, какие только мы способны придумать. Те же, которые осмеливаются при помощи этих атрибутов почитания рассуждать о природе Бога, теряют свой разум уже при самой первой попытке и впадают из одной несообразности в другую без конца и числа подобно тому, как человек, незнакомый с придворными церемониями, явившись к лицу, более высокопоставленному, чем те, с которыми он до того имел дело, и споткнувшись при входе, при усилии удержаться от падения роняет свой плащ, а при усилии поднять свой плащ роняет свою шапку и одной неловкостью за другой обнаруживает свою растерянность и невоспитанность.
Что же касается физики, то есть науки о подчиненных и вторичных причинах всех естественных явлений, то в этом отношении школы ничего не дают, кроме пустых слов. Если вы желаете знать, почему известного рода тела падают по своей природе на землю, а другие по своей природе подымаются от нее, то школы, основываясь на Аристотеле, скажут вам, что тела, падающие вниз, обладают тяжестью и что эта именно тяжесть заставляет их падать вниз. Если же вы спросите их, что они понимают под тяжестью, то они определят ее как стремление к центру земли. Выходит таким образом, что причиной падения тел является стремление быть внизу, что равносильно тому, что сказать, что тела падают и подымаются, потому что они так делают. Или они вам скажут, что центр земли есть место покоя и сохранения тяжелых вещей и поэтому тяжелые тела стремятся туда. Как будто бы камни и металлы подобно людям имеют желание и могут наметить место, где бы им хотелось быть, или будто эти тела в отличие от людей любят покой, или будто кусок стекла чувствует себя в окне менее удобно, чем после падения на улицу. Если вы желаете знать, почему то же тело кажется иной раз больше, чем в другое время (между тем как мы ничего не прибавили к нему), то школы скажут, что, когда тело кажется меньшим, оно сгущено, а когда оно кажется большим, оно разрежено. Если же спросите, что значит сгущено и разрежено, они вам ответят, что сгущено значит, что та же самая материя имеет меньшую величину, чем раньше, а разрежено, когда она имеет большую величину. Как будто может существовать материя, не имеющая определенной величины, в то время как величина есть не что иное, как определение материи, то есть тела, определение, в силу которого мы говорим, что одно тело настолько больше или меньше другого тела. Или как будто бы тела были сделаны без всякой величины, и лишь затем была вложена в них большая или меньшая величина соответственно тому, предполагалось ли сделать их более или менее плотными.
О причине наличия души в человеке школы говорят: creatur infundendo и creando infunditur, то есть душа была сотворена тем, что была влита, и была влита сотворением. Причиной наших внешних чувств они считают вездесущность обр азов, то есть привидений объектов, причем привидение для глаза есть зрение, для уха – слух, для неба – вкус, для ноздрей – обоняние, для остальной части тела – чувство. Как причину воли совершить какое-нибудь частное действие, то есть как причину того, что называется хотением или желанием, они указывают общую способность человека желать иногда одно, а иногда другое, способность, которую римляне называют voluntas. Этим школы делают способность к действию причиной действия, что так же бессмысленно, как если бы кто-нибудь объявил причиной добрых и злых деяний людей способность людей совершать их. И во многих случаях они ставят как причину естественных явлений свое собственное незнание, только прикрытое другими словами. Так, например, когда они объявляют случайность причиной случайных явлений, то есть явлений, причины которых они не знают, или когда они приписывают многие эффекты скрытым качествам, то есть качествам, неизвестным им и поэтому также (как они убеждены) никому другому, или симпатии, антипатии – действию двух противоположных качеств, специфическим качествам и другим подобным терминам, не обозначающим ни агента, производящего данные эффекты, ни операции, при помощи которой они были произведены.
Если такие метафизика и физика, как эти, не являются пустой философией, то пустой философии вообще никогда не было и незачем было апостолу Павлу предостерегать нас против таковой.
А что касается моральной и гражданской философии школ, то в ней имеются те же, если не еще большие, нелепости. Если человек совершает противозаконное действие, то есть действие, противное законам, то школы говорят, что Бог является первой причиной закона, а также первой причиной этого и всех других действий, но он не является причиной противозаконности действия, которая заключается в несоответствии действия закону. Это – пустая философия. С таким же основанием можно было бы сказать, что один человек делает как прямую, так и кривую линию, а другой человек делает их несоответствие. И такова философия людей, которые делают заключения до того, как они знают их предпосылки, которые претендуют на понимание того, что непостижимо, и которые из атрибутов, выражающих почитание, делают атрибуты, характеризующие природу почитаемого существа, как это различение было сделано для поддержания учения о свободе воли, то есть воли человека, не подчиненного воле Бога. Аристотель и другие языческие философы делают критерием добра и зла вожделения людей. И это совершенно правильно, пока мы предполагаем людей живущими в состоянии, при котором каждый управляется своим собственным законом. Ибо в том состоянии, когда люди не имеют других законов, кроме своих собственных вожделений, не может быть общего правила насчет добрых и злых деяний. Однако в государстве такое мерило неправильно. Ибо здесь мерилом служит не вожделение частных людей, а закон, являющийся волей и вожделением государства. И тем не менее это учение еще господствует в практике, и люди судят о честности и бесчестности действий как своих собственных, так и других людей, а также и самого государства, руководствуясь своими собственными страстями, и всякий называет честным и бесчестным лишь то, что ему так кажется, совершенно не сообразуясь при этом с государственным законом. Исключение представляют в этом отношении лишь монахи и чернецы, обязанные в силу своего обета тем простым повиновением по отношению к своему настоятелю, которым всякий подданный должен считать себя обязанным в силу естественного закона по отношению к гражданскому суверену. И это частное мерило добра является не только несостоятельным учением, но также учением, гибельным для государства. Несостоятельной и ложной философией является также утверждение, что брак противоречит целомудрию или воздержанию, или, иначе, что брак является моральным пороком, как это делают те, которые из соображения целомудрия и воздержания устанавливают для духовенства безбрачие. Защитники безбрачия признают, что оно не более, как установление церкви, требующей от духовного сана, обслуживающего постоянно алтарь и таинство святого причащения, постоянного воздержания от женщин под именем постоянного целомудрия, воздержания и чистоты. Поэтому они называют законное сожительство с женщинами отсутствием целомудрия и воздержания и таким образом делают брак грехом или по крайней мере настолько нечистой вещью, что он делает человека непригодным для алтаря. Если закон о безбрачии духовенства издан был потому, что сожительство с женщинами есть невоздержание и нарушение целомудрия, тогда является пороком всякий брак. Если же он издан потому, что сожительство с женщиной есть нечто слишком нечистое для человека, посвятившего себя Богу, то еще больше должны были бы сделать людей недостойными быть священниками и другие естественные необходимые и ежедневно отправляемые людьми функции, так как последние являются еще более нечистыми.
Невероятно, однако, чтобы прокламирование безбрачия для духовенства имело своим основанием лишь морально-философскую ошибку. Точно так же не является основанием этого прокламирования предпочитание холостой жизни брачному состоянию по примеру апостола Павла, который в своей мудрости понимал, насколько неудобно было, чтобы в ту эпоху гонений на христиан люди, являвшиеся проповедниками Евангелия и вынужденные кочевать из страны в страну, были обременены заботами о жене и детях. Основанием указанного запрещения было, вернее, намерение пап и позднейших священников сделать себя духовенством, то есть наследниками Царства Божия в этом мире. А для этого необходимо было лишить их права жениться, так как наш Спаситель говорит, что по наступлении его царства дети Божьи не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах, то есть будут жить духовно. А так как священники присвоили себе имя духовенства, разрешить себе обладание женщинами (когда в этом не было никакой нужды) было бы несообразно.
От политической философии Аристотеля школы позаимствовали и тот взгляд, согласно которому они считают тиранией все формы государства за исключением народного (каким было в то время государство Афин). Всех царей они называют тиранами, а аристократию тридцати правителей, поставленных покорившими Афины лакедемонянами, они называют правлением тридцати тиранов. Под влиянием политической философии Аристотеля школы называют также состояние народа под властью демократии свободой. Слово тиран означало первоначально лишь монарха. Впоследствии же, когда эта форма правления была упразднена в большинстве частей Греции, слово тиран стало обозначать не только то, что оно обозначало раньше, но вместе с этим также и ту ненависть, которую демократические государства питали к указанному образу правления подобно тому, как имя царь стало одиозным в Риме после свержения царей, ибо все люди, естественно, вкладывают момент хулы в атрибут, который приписывается ими по злобе большому врагу. А если эти же люди бывают недовольны теми, кто правит в демократии или аристократии, то им не приходится искать бранных слов, а они охотно называют одну форму анархией, а другую – олигархией или тиранией кучки. А недовольны в этих случаях люди лишь тем, что ими управляют не так, как каждый из них хотел бы для себя, а так, как это считает нужным представитель государства, будь то один человек, будь то собрание людей, – иными словами, люди недовольны тем, что верховная власть управляет ими по своему произволу, за что они дают своим верховным правителям всякие бранные названия, не понимая никогда (а если понимают, то разве лишь короткое время после гражданской войны), что без такого произвола правительства такая гражданская война необходимо становится перманентным состоянием и что люди и оружие, а не слова и обещания, придают законам силу и влияние.
И поэтому второй ошибкой политики Аристотеля является выставленное в ней положение, что в хорошо организованном государстве должны управлять не люди, а законы. Ибо даже человек, не умеющий ни читать, ни писать, если только он в здравом рассудке и твердой памяти, понимает, что он управляется теми, кого он боится и которые могут убить или так или иначе наказать его в случае неповиновения им. Или верит ли кто-нибудь, что его могут наказать законы, то есть слова и бумага без помощи рук и меча людей? И эта ошибка принадлежит к числу гибельных ошибок. Ибо такие ошибки побуждают людей каждый раз, когда они недовольны своими правителями, соединиться с тем, кто называет этих правителей тиранами и считает законным поднять против своих правителей восстание. И тем не менее такие ошибки часто одобряются духовенством с амвона.
Имеется еще другая ошибка в гражданской философии школ (которую они уже не позаимствовали ни у Аристотеля, ни у Цицерона, ни у кого-либо другого из язычников), а именно стремление распространить влияние закона, являющегося правилом для действий, намысли и совести людей, доискиваясь и допытываясь того, что люди думают в глубине души, несмотря на полную закономерность их речей и действий. В силу чего люди или подвергаются наказанию, говоря правду о своих мыслях, или из боязни наказания вынуждены говорить неправду. Верно, конечно, что гражданское должностное лицо, намереваясь поручить кому-нибудь дело преподавания, может спросить его, взял ли бы он на себя проповедовать такие и такие учения, и в случае его отрицательного ответа может отказаться вверить ему указанный пост. Но заставлять людей, не совершивших незакономерных действий, обвинять себя за мысли, противоречит естественному закону и особенно со стороны людей, которые учат, что человек, умерший с ложным взглядом относительно какого-нибудь догмата христианской веры, будет осужден на вечные и величайшие мучения, ибо всякого, кто знает, что ошибка грозит ему большой опасностью, собственная забота о себе заставит рисковать своей душой предпочтительнее из-за своего собственного суждения, чем из-за суждения кого-либо, кто равнодушен к его осуждению.
Предположение, что частный человек может толковать закон по внушению своего собственного духа, не имея на то полномочий государства, то есть разрешения представителя государства, является также ошибкой и в политике. Однако эта ошибка не позаимствована ни у Аристотеля, ни у кого-либо из других языческих философов. Ибо никто из этих философов не отрицает, что право делать законы содержит в себе также право толковать их, когда это требуется. И разве во всех тех местах, где Писание стало законом, оно не сделано таковым властью государства и, следовательно, частью гражданского закона?
Таким же покушением на прерогативы государства является, когда кто-нибудь помимо суверена ограничивает кого-либо в отношении какого-нибудь права, в котором государство его не ограничивает, как это делают те, которые присваивают право проповедовать Евангелие определенному сословию там, где закон предоставляет это право всякому человеку. Если государство разрешает мне, то есть не запрещает мне, учить и проповедовать, никто не может мне этого запретить. Если я, будучи христианином, но не являясь членом какого-нибудь ордена, очутился бы среди идолопоклонников Америки, то разве я считал бы грехом проповедовать христианство, не дожидаясь соответствующего предписания из Рима? Или, проповедуя, не должен ли я разрешить их сомнения и истолковать для них писания, то есть не должен ли я их учить?
На это, так же как и насчет совершения для них таинств, могут, конечно, возразить, что необходимо в указанном случае имеет силу полномочий. И это верно. Однако верно также и то, что если какие-нибудь запрещенные законом деяния должны быть разрешены, если этого требует необходимость, то на совершение тех же действий не требуется вообще никакого разрешения, если они не запрещены законом. Поэтому отрицать право на исполнение указанных функций за лицами, которых гражданский суверен не лишил этого нрава, есть лишение этих лиц их законной свободы и нарушение прерогатив гражданского государства.
Можно было бы привести еще больше примеров несостоятельной философии, внесенной в религию учеными теологами, однако другие люди могут, если это им угодно, сами проследить их. К сказанному я хочу только прибавить, что все сочинения ученых теологов представляют собой не что иное, как бессмысленный набор нелепых и варварских слов или слов, употребленных в другом смысле, чем тот смысл, в котором они обычно употребляются в латинском языке, то есть в котором их употребили бы Цицерон, Варрон и грамматики Древнего Рима. Если кто-нибудь хочет убедиться в правильности этого моего утверждения, то пусть он (как и я уже сказал это раз выше) посмотрит, сможет ли он перевести сочинение какого-нибудь ученого теолога на один из современных языков, например, на французский, английский или какой-нибудь другой богатый язык. Ибо то, что не может быть сделано вразумительным на большинстве из этих языков, не вразумительно и по-латыни. И хотя этот несуразный язык сам по себе еще не свидетельствует о ложности их философии, однако он обладает качеством не только скрывать истину, но и побуждать людей думать, что они эту истину имеют, и отказаться от дальнейшего исследования.
Наконец, что касается ошибок, внесенных в религию ложной или недостоверной историей, то, что представляют собой все легенды о вымышленных чудесах, совершенных будто бы святыми, и все истории о явлениях и привидениях, на которые ссылаются римско-католические теологи, чтобы оправдать свои учения об аде и чистилище, о заклинании духов и другие учения, для которых нет никакого основания ни в разуме, ни в Писании, а также все те традиции, которые они называют неписаным словом Божьим, – что все это представляет собой, если не бабьи сказки? И хотя кое-какие из этих историй можно найти в разных местах в сочинениях древних Отцов Церкви, однако эти Отцы Церкви были людьми, которые легко могли поверить ложным сообщениям. И ссылка на мнения этих Отцов Церкви в доказательство истинности того, чему они верили, имеет обратный эффект, ибо, демонстрируя их легковерие, эти мнения лишь дискредитируют в глазах тех, кто (согласно совету апостола Иоанна в Первом послании, 4, 1) испытывает духов, свидетельство в отношении всего, что касается власти римской церкви (злоупотребления которой они или не подозревали, или оно было для них выгодно). Такому легковерию обычно более всего подвержены наиболее искренние люди, не обладающие большими знаниями в отношении естественных причин (каковыми были Отцы Церкви), ибо хорошие люди, естественно, менее всего подозревают кого-либо в мошенничестве. Папе Григорию и святому Бернарду будто бы явились привидения, сообщившие, что они находятся в чистилище, и подобное произошло будто бы с нашим Б ед ой. Однако мы это знаем, как мне кажется, из сообщений других людей. Но если указанные лица или кто-либо иной рассказывают такие истории, в которых они якобы сами удостоверились, они этим ни в какой мере не подтверждают истинности таких пустых сообщений. Они разоблачают этим лишь свою собственную слабость или свое собственное мошенничество.
К распространению ложной философии надо прибавить вытеснение истинной такими людьми, которые ни в силу законных полномочий, ни в силу достаточных знаний не являются компетентными судьями истины. Наше мореходство делает очевидным и люди науки признают, что имеются антиподы, и с каждым днем становится все яснее, что годы и дни определяются движениями земли. И тем не менее люди, лишь предположившие в своих сочинениях подобные учения, с тем чтобы доказать их или опровергнуть, были за это наказаны церковными властями. И на каком основании? Потому ли, что эти учения противоречат истинной религии? Но это не может быть, если они истинны. Пусть поэтому их истина будет сначала испытана компетентными судьями или опровергнута теми, кто утверждает обратное. Потому ли, что они противоречат установленной религии? Но тогда пусть они будут запрещены законами тех, кому пропагандисты этих учений подвластны, то есть гражданскими законами. Ибо за неповиновение могут быть наказаны те, кто против законов учит даже истинной философии. Потому ли, что они ведут к ниспровержению государственного строя, поощряя восстание и бунты? Но тогда пусть они будут пресечены и их учителя наказаны властью того, кому вверена забота об общественном спокойствии, то есть властью гражданского суверена. Ибо все, что церковные власти предпринимают (там, где они подвластны государству) по собственному праву, хотя бы они называли это правом Бога, есть узурпация.
Глава XLVII
О выгоде, проистекающей от тьмы, и кому эта выгода достается
Цицерон с уважением отзывается об одном из Кассиев, строгом судье среди римлян, за его обыкновение в уголовных делах (там, где показания свидетелей были недостаточно убедительны) спрашивать обвинителей cui bono, то есть какого рода выгоду, почет или другое удовольствие обвиняемый мог извлечь или ожидать от своего деяния. Ибо из всех догадок, которые мы строим при установлении виновника какого-нибудь преступного деяния, наибольшую вероятность имеет та, которая строится на соображении выгоды, проистекающей от преступного деяния для того или другого подозреваемого лица. Этим же правилом я намерен руководствоваться здесь при выяснении вопроса, кому именно эти учения, противоречащие интересам мирного существования обществ человеческого рода, дали возможность так долго господствовать над людьми в этой части христианского мира.
Начнем с того, что с заблуждением, что нынешняя воинствующая церковь на земле есть Царство Божье (то есть царство славы или обетованная земля, а не царство благодати, являющееся лишь обетованием земли), связаны следующие земные блага. Первое – что пастыри и учителя церкви этим управомочены в качестве государственных служителей Бога управлять церковью и, следовательно (ввиду того что церковь и государство являются одним и тем же лицом), быть властителями и правителями государства. Благодаря этому титулу папа заставил подданных всех христианских государей верить, что неповиновение ему есть неповиновение самому Христу, а также добился того, что при всех столкновениях между ним и другими государями подданные этих государей (зачарованные словами духовная власть) покидают своих законных суверенов, и, таким образом, папа фактически стал универсальным монархом всего христианского мира. Ибо хотя первоначально (как это признают и сами папы) право быть верховными учителями христианского учения внутри пределов Римской империи было пожаловано папам римскими императорами и под их властью, на что указывает также пожалованный им титул pontifex maximus (верховный жрец, или первосвященник), обозначавший в Древнем Риме чиновника, подчиненного гражданскому государству, однако после разделения и распада Римской империи нетрудно было заставить народ, уже подчиненный папам, признать за ними другой титул, а именно титул, основанный на праве апостола Петра, и этим не только целиком спасти присвоенную ими себе власть, но и распространить ее на те христианские провинции, которые даже уже отпали от Римской империи. Благо обладания властью универсального монарха (принимая во внимание волю людей к власти) дает достаточное основание предполагать, что претендующие на эту власть папы были авторами того учения, при помощи которого эта власть была достигнута, а именно учения о том, что нынешняя церковь на земле есть царство Христа. Ибо, допустив это, мы должны допустить также, что Христос имеет некоторого наместника среди нас, от которого мы должны узнать, каковы заповеди Христа. После того как некоторые церкви отвергли эту универсальную власть папы, можно было с полным основанием ожидать, что во всех этих церквах гражданские суверены снова обретут всю ту полноту власти, которая раньше (до того как они неразумно мирились с притязаниями папы) была их собственным правом и в их собственных руках. И в Англии это действительно так и было, с тем исключением, что те, которым короли вверили управление религией, придерживались взгляда, будто они занимают свой пост по праву Бога, вследствие чего могло казаться, что они узурпируют если не верховенство над гражданской властью, то независимость о т нее. Но это была лишь кажущаяся узурпация, ибо они признавали за королем право лишить их по своему усмотрению права выполнять свои функции.
В других же местах, где управление церковью перешло в руки консистории пресвитерианской церкви, последняя хотя и запретила проповедывание многих других учений римской церкви, однако оставила в силе то, что царство Христа уже пришло и что оно началось с момента воскресения нашего Спасителя. Но cui bono? Какую выгоду ожидали они от этого учения? Ту же самую, какую ожидали папы, а именно иметь верховную власть над народом. Ибо что значит для людей отлучить от церкви своего законного короля, если не запретить ему вход во все места общественного богослужения в его собственном королевстве и оказать ему вооруженное сопротивление, когда он пытается силой держать их в повиновении? Или что значит отлучить кого-либо от церкви, не имея на то полномочий гражданского суверена, если не лишить отлученного его законной свободы, то есть незаконным образом узурпировать власть над своими братьями? Виновником этой религиозной тьмы является поэтому римское и пресвитерианское духовенство.
Сюда я отношу также все те учения, которые являются для духовенства средством удержать в своих руках уже приобретенное духовное верховенство. Как, например, прежде всего тот догмат, что папа в своем публичном качестве непогрешим. Ибо кто же, уверовав в истинность этого догмата, не будет охотно повиноваться папе во всем, что бы он ни приказал?
Во-вторых, тот догмат, что все другие епископы в любом государстве получают свое право от папы, а не непосредственно от Бога, непосредственно от их гражданских суверенов, имеет своим следствием, что в каждом христианском государстве имеется много могущественных людей (ибо таковыми являются епископы), зависящих от папы и обязанных ему повиновением, хотя бы он был для них иностранным государем. Благодаря этому папа может (как он уже много раз это делал) поднять гражданскую войну против государства, не желающего подчиняться в своем управлении его усмотрению и интересам. В-третьих, изъятие епископов и всех других священников, а также и всех монахов и чернецов из-под власти гражданских законов. В силу этого положения в каждом государстве имеется значительная часть подданных, которые пользуются благодеянием законов и защитой власти гражданского государства и, тем не менее, не участвуют в государственных расходах, не подвергаются, как все другие подданные, наказаниям, установленным законом за их преступления, и, следовательно, не имеют причины бояться кого бы то ни было, кроме папы, к которому одному они привержены, поддерживая его универсальную монархическую власть.
В-четвертых, таким средством в целях сохранения своей власти является давать своим служителям культа (которые в Новом Завете называются пресвитерами, то есть старейшинами) имя sacerdotes, то есть священников, что было титулом гражданского суверена и его государственных служителей у евреев, пока Бог был их царем. Как это, так и то обстоятельство, что они делают из Тайной вечери жертвоприношение, является средством заставить народ верить, будто папа имеет ту же власть над всеми христианами, которую Моисей и Аарон имели над евреями, то есть всю власть как гражданскую, так и церковную, как ее имел в то время первосвященник.
В-пятых, догмат, что брак есть таинство, делает духовенство судьей законности брака и в силу этого судьей того, какие дети являются законнорожденными, а следовательно, делает духовенство судьей права на престолонаследие в наследственных королевствах.
В-шестых, догмат о безбрачии духовенства является средством обеспечить за папой его власть над королями. Ибо если король является священником, то он не может жениться и передать королевство своему потомству. Если же он не священник, тогда папа претендует на церковную власть над ним и его народом.
В-седьмых, благодаря исповеди представители духовенства лучше информируются о намерениях государей и высокопоставленных лиц в гражданском государстве, чем эти последние могут информироваться о намерениях церковного государства.
В-восьмых, канонизацией святых и установлением, кто является мучеником, они обеспечивают свою власть, подстрекают простых людей к упорному, до самой последней капли крови, сопротивлению законам и повелениям своих гражданских суверенов, если последние папским отлучением от церкви объявлены еретиками и врагами церкви, то есть (как они это толкуют) врагами папы.
В-девятых, они обеспечивают свою власть тем, что приписывают всякому священнику силу делать Христа и назначать покаяние, а также отпущением и оставлением грехов.
В-десятых, учение о чистилище, об оправдании внешними делами, об индульгенциях служит к обогащению духовенства.
В-одиннадцатых, своей демонологией, практикой заклинания бесов и другими относящимися сюда делами они внушают (или думают, что внушают) народу большее уважение к их власти.
Наконец, «Метафизика», «Этика» и «Политика» Аристотеля, бессодержательные различения, варварские термины и темный язык схоластов – все то, чему учат в университетах (которые все были основаны и учреждены властью пап), служит им для того, чтобы сделать невозможным раскрытие этих ошибок и заставить людей принять ignis fatuus (блуждающий огонь) ложной философии за свет Евангелия.
Если для доказательства нашего положения приведенные соображения недостаточны, то можно привести еще другие темные их учения, способствующие установлению незаконной власти над законными суверенами христианских народов, или защите этой власти, когда она уже установлена, или приобретению земных богатств, почестей и авторитета теми, которые такую власть поддерживают. Вот почему на основании вышеуказанного правила cui bono мы можем с полным основанием объявить виновниками всей этой духовной тьмы папу и римское духовенство и сверх того всех тех, кто стремится внушить людям тот ложный догмат, будто существующая ныне на земле церковь есть Царство Божье, предсказанное в Ветхом и Новом Завете.
Однако соучастниками указанных виновников, к их собственному вреду и вреду их государств, можно считать и тех императоров и других христианских суверенов, во время правления которых впервые возникли эти ошибки и стремления к узурпации их власти со стороны церковников, внесшие смуту в государства и нарушившие спокойствие подданных, хотя указанные императоры и суверены попустительствовали этому из неспособности предвидеть последствия этих тенденций и неумения проникнуть в намерения этих учителей. Соучастниками их приходится считать потому, что без их разрешения никакие мятежнические учения не могли бы быть публично проповедуемы с самого начала. Я говорю, что императоры и другие суверены могли бы помешать распространению этих учений вначале. Но когда народ уже подпал под влияние этих духовных лиц, человеческая изобретательность была бессильна придумать какое-нибудь средство против их козней. А что касается мер, которые следовало бы принять Богу, который в надлежащее время всегда расстраивает все козни людей против истины, то мы должны ждать того момента, когда Богу угодно будет это сделать и в данном случае. Ибо Бог весьма часто допускает, чтобы удачи и честолюбие его врагов возросли до таких размеров, при которых их насилие, завуалированное вначале благодаря осторожности их предшественников, становится открытым и ясным для всех, и людей, слишком много загребающих, Бог заставляет терять все подобно тому, как сеть Петра разорвалась благодаря барахтанию слишком большого количества рыб. Нетерпение же тех, кто стремился дать отпор таким притязаниям римского духовенства до того, как открылись глаза их подданных, привело лишь к росту той власти, против которой они боролись. Я поэтому не порицаю императора Фридриха за то, что он держал стремена нашему земляку, папе Адриану, ибо таково было настроение его подданных, что, если бы он этого не сделал, он не мог бы наследовать императорскую корону. Но я порицаю тех императоров и суверенов, которые в самом начале, когда вся полнота власти была еще в их руках, терпели, чтобы такие учения ковались в университетах их собственных владений, и этим как бы придерживали стремена всем последующим папам, взбиравшимся на троны всех христианских суверенов, чтобы оседлать и терзать по своей воле как самих суверенов, так и их народы. Однако человеческие хитросплетения расплетаются так же, как они плетутся. Причем и то и другое совершается одним и тем же путем, только в обратном порядке. Сплетение началось при первых элементах власти, каковыми были мудрость, смирение, искренность и другие добродетели апостолов, которым новообращенные христиане повиновались не по обязанности, а из уважения. Совесть этих новообращенных была свободна, а в отношении своих слов и действий они подчинялись лишь гражданской власти. Впоследствии пресвитеры (когда Христово стадо возросло), собравшись, чтобы обсудить, чему они должны учить, и обязавшись при этом не учить ничему, что шло бы вразрез с постановлениями их собраний, заставили думать, будто этим вменяется в обязанность всем христианам следовать учению пресвитеров, а если кто-либо отказывался это делать, то остальные члены христианских общин отказывались от общения с ним (что называлось тогда отлучением) не как с неверным, а как с неповинующимся. И это был первый узел, которым была зажата свобода христиан. Когда же число пресвитеров возросло, то пресвитеры главного города или главной провинции присвоили себе власть над приходскими пресвитерами и назвали себя епископами. И это был второй узел, зажавший свободу христиан. Наконец, римский епископ ввиду положения города Рима как столицы империи присвоил себе (отчасти согласно желанию самих императоров и благодаря титулу pontifex maximus, а наконец, когда власть императоров ослабела, на основании привилегий апостола Петра) власть над всеми другими епископами империи, что было третьим и последним узлом, завершившим собой весь синтез и строение папской власти.
И поэтому анализ и разложение идут тем же путем, но они начинают с узла, завязанного последним, как мы это можем наблюдать при упразднении прежней формы церковного управления в Англии. Прежде всего была целиком упразднена власть папы королевой Елизаветой, и епископы, которые раньше отправляли свои обязанности именем папы, после реформы отправляли их именем королевы и ее преемников, хотя сохранение в их титуле фразы jure divino подавало повод думать, что они их отправляют по непосредственному праву Бога. Таким образом был развязан первый узел. После этого пресвитериане добились недавно в Англии отмены епископата. И таким образом был развязан второй узел. И одновременно с этим почти была отнята власть у пресвитериан, и мы, таким образом, возвращаемся к свободе, которой пользовались первобытные христиане, – следовать Павлу, Кифе или Аполлону, как всякий сочтет для себя наилучшим. И если такое положение не ведет к борьбе и не ведет также к тому, чтобы мы мерили учение Христа нашей привязанностью к личности Его служителя (недостаток, который апостол порицал у коринфян), то оно является, пожалуй, наилучшим. Во-первых, потому, что не должно быть никакой власти над совестью людей, а лишь над словом, ибо вера развивается во всяком человеке не всегда в том направлении, в каком это желательно тем, кто ее насаждает и поливает, а так, как это угодно Богу, дающему ей рост; а во-вторых, потому, что неразумно со стороны тех, которые говорят нам, какой опасностью грозит всякая малейшая ошибка в отношении веры, требовать от человека, одаренного собственным разумом, чтобы он следовал разуму другого человека или большинству голосов многих других людей, что было бы не намного лучше, чем рисковать своим спасением игрой в орлянку. И указанные учителя не должны быть недовольны потерей их древней власти, ибо никто не должен был бы лучше их знать, что власть сохраняется теми же добродетелями, благодаря которым она была приобретена, то есть мудростью, смирением, чистотой учения и искренностью речи, а не подавлением естественных наук и нравственности, диктуемой естественным разумом, а также не темным языком или преувеличенным представлением о своих знаниях, не благочестивым обманом или другими подобными недостатками, которые в пастырях церкви Божьей являются не только недостатками, но также скандалами, способными рано или поздно навести людей на мысль о необходимости подавления такой власти.
Однако, после того как был принят миром тот догмат, что воинствующая ныне церковь есть Царство Божье, о котором говорится в Ветхом и Новом Завете, честолюбие и стремление к связанным с этим царством постам, особенно к высокому посту наместника Христа, и к блеску тех, кто получил в этом царстве важнейшие государственные должности, стали настолько очевидны, что люди потеряли то внутреннее уважение к пастырской функции, которого эта функция сама по себе заслуживает, и это в такой мере, что наиболее мудрые из тех, кто имел некоторую власть в гражданском государстве, нуждались лишь в разрешении их государей, чтобы отказать духовенству в дальнейшем повиновении. Ибо с тех пор как римский епископ был признан в качестве преемника апостола Петра универсальным епископом, вся духовная иерархия, или царство тьмы, может быть не без основания сравниваема с царством фей, то есть со сказками старых баб в Англии относительно привидений и духов и тех фокусов, которые они выкидывают ночью. И всякий, кто займется вопросом о происхождении этой великой церковной власти, легко заметит, что папство представляет собой не что иное, как привидение умершей Римской империи, сидящее в короне на ее гробу. Ибо папство внезапно появилось из развалин этой языческой власти.
Что представляет собой тот латинский язык, которым римская курия пользуется как в церкви, так и в своих государственных актах и которым обыкновенно не пользуется сейчас ни один народ в мире, – что представляет собой этот язык, если не привидение древнего латинского языка? Феи, с каким бы народом они ни общались, имеют лишь одного универсального царя, которого некоторые наши поэты называют царем Обероном, но Писание называет Вельзевулом, царем демонов. Церковники точно так же, в чьих бы владениях они ни находились, признают лишь одного универсального царя, папу.
Церковник и являются духовными людьми и духовными отцами. Феи являются духами и привидениями. Феи и привидения пребывают в темных, уединенных местах и среди гробов. Церковник и ходят во тьме учения и пребывают в монастырях, церквах и на кладбищах. Церковники имеют свои кафедральные соборы, и, в каком бы городе эти соборы ни были воздвигнуты, они в силу святой воды и определенного колдовства, называемого заклинанием духов, имеют способность превратить эти города в главные города, то есть в имперские города. Феи также имеют свои заколдованные замки и определенных гигантских духов, которые господствуют над всей областью вокруг. Феи неуловимы и не могут быть привлечены к ответственности за причиненный ими вред. Точно так же и церковники ускользают из рук гражданской юстиции. Церковники разными чарами, составленными из метафизики, чудес, традиции и злоупотребления Писанием, лишают молодых людей разума, так что последние годятся лишь на то, чтобы выполнять их приказания. Феи также, как говорят, выкрадывают маленьких детей из их люлек и превращают их в природных идиотов, которых простой народ называет эльфами и которые являются пригодным орудием для совершения зла. В какой мастерской феи изготовляют свое волшебство, об этом старые бабы не говорят. Мастерской же духовенства, как достаточно хорошо известно, является университет, получивший свой строй от папской власти. Говорят, что, когда феи недовольны кем-либо, они посылают своих эльфов, чтобы ущипнуть его. Точно так же и церковники, когда они недовольны каким-либо государством, заставляют своих эльфов, то есть суеверных, завороженных подданных, ущипнуть своих государей проповедью мятежа, или же они завораживают обещаниями одного государя и заставляют его ущипнуть другого.
Феи не выходят замуж, но иногда среди них имеются домовые, вступающие в половую связь с людьми. Священники также не женятся... Церковники снимают пенку со страны в виде даров невежественных людей, благоговеющих перед ними, и в виде десятины. Точно так же рассказывается в сказках о феях, что они входят в молочные и угощаются пенкой, снимаемой ими с молока.
Какого рода деньги имеют хождение в царстве фей, сказки не говорят. Церковники же, получая деньги, берут те же деньги, что и мы. Расплачиваются же они канонизациями, индульгенциями и обеднями.
К этим и подобным чертам сходства между папством и царством фей можно еще прибавить, что подобно тому, как феи имеют бытие лишь в фантазиях невежественных людей, позаимствованных из преданий старых баб или древних поэтов, духовная власть папы (вне пределов его собственных владений) существует лишь в боязни отлучения от церкви одураченных людей, наслышавшихся рассказов о ложных чудесах, ложных традициях и лжетолкованиях Писания.
Нетрудно было поэтому Генриху VIII, а также королеве Елизавете совершить, в свою очередь, заклинание бесов и изгнать церковников. Однако кто знает, не может ли вернуться этот дух Рима, бродящий теперь в лице его миссионеров по суровым местам Китая, Японии и Индии, скудно вознаграждающим его старания, или, что еще более возможно, не заберется ли в этот чисто выметенный дом сонм духов худших, чем дух Рима, и сделает его конец хуже, чем его начало? Ибо не одно только римское духовенство исповедует догмат, что царство Божье осуществлено в этом мире, и на этом основании претендует на власть в этом мире, независимую от власти гражданского государства. И это все, что я намерен был сказать относительно учения о политике. И этот мой трактат по предварительном его просмотре я охотно представляю на суд моей страны.
Обозрение и заключение
Факт противоположности между собой некоторых естественных качеств ума, а также некоторых страстей и роль, которую эти качества ума и страсти играют в общении между людьми, были использованы как аргумент, чтобы доказать, что ни один человек не склонен к выполнению всех видов гражданских обязанностей. Строгость суждения, говорят представители указанного взгляда, делает людей суровыми и неспособными прощать ошибки и слабость других людей, а с другой стороны, быстрая смена представлений в человеческом воображении делает мысли менее устойчивыми, чем это необходимо для того, чтобы точно различать между справедливостью и несправедливостью. Опять-таки при всяком обдумывании и при всяком разборе тяжб необходима способность к основательному суждению, ибо без этой способности человеческие решения бывают поспешными, а приговоры судей несправедливыми, и, тем не менее, если в этих случаях не приходит на помощь сильное красноречие, приковывающее внимание и вынуждающее согласие, разум оказывает слабое действие. Но это все противоположного характера способности. Первая основана на принципах истины, вторая – на уже принятых мнениях, истинных или ложных, и на страстях и интересах людей, которые различны и изменчивы. А из страстей храбрость (под которой я разумею презрение к ранам и насильственной смерти) располагает людей к частной мести, а иногда к усилиям, направленным к нарушению мира в государстве. Робость же часто располагает к уклонению от защиты государства. То и другое качество, говорят представители указанного выше взгляда, несовместимы в одном и том же лице.
И если принять во внимание, указывают далее, противоположность людских мнений и нравов вообще, то станет ясной невозможность поддерживать постоянную дружбу со всеми теми людьми, с которыми нас заставляют общаться мирские дела. Ибо эти дела сводятся не к чему иному, как к постоянной борьбе за почести, богатства и власть.
На это я отвечаю, что это в самом деле большие трудности, но не непреодолимые. Ибо воспитанием и дисциплиной указанные противоположные страсти могут быть примирены, а иногда и примиряются. Суждение и фантазия могут иметь место в одном и том же человеке, но по очереди в зависимости от того, как этого требует та цель, к которой он стремится. Подобно тому как израильтяне в Египте иногда были прикреплены к своей работе делать кирпичи, а в другое время бродили, чтобы собирать солому, точно так же может иногда способность суждения быть сконцентрирована на определенной мысли, а в другое время фантазия может бродить по миру. Таким же образом могут хорошо уживаться вместе разум и красноречие (хотя, может быть, не в естественных науках, а в моральных). Ибо везде, где есть место для прикрашивания и предпочитания заблуждения, тем больше есть место для прикрашивания и предпочитания истины, если истина нуждается в прикрашивании. Нет также никакой несовместимости между боязнью законов и небоязнью врага государства, точно так же между воздержанием от причинения вреда кому-либо и прощением такого проступка у других. Человеческая природа и гражданские обязанности поэтому не так уже несовместимы, как это некоторые полагают. Я знал человека, совмещавшего в себе в высшей степени ясность суждения и широту фантазии, строгий ум и изящное красноречие, храбрость на войне и боязнь законов, и это был мой благороднейший и почтеннейший друг мистер Сидней Годольфин, который, не питая вражды ни к кому и не имея врагов, был, к несчастью, убит неведомой и не ведающей, что она творит, рукой в начале гражданской войны в одном из столкновений между борющимися сторонами. К естественным законам, изложенным в гл. XV, я хотел бы прибавить следующий, а именно что всякий человек обязан в силу естественного закона защищать на войне всеми силами ту власть, от которой он сам получает защиту в мирное время. Ибо тот, кто на основании естественного права претендует на сохранение своего тела, не может думать, что существует естественное право погубить того, чьей силой он сохраняется. Думать так было бы в самом деле явным противоречием. И хотя этот закон может быть выведен путем умозаключения из некоторых уже изложенных законов, однако время требует, чтобы его вдолбили в голову и чтобы его запомнили. А так как из многих недавно напечатанных английских книг я вижу, что гражданские войны еще недостаточно научили людей определить тот момент, когда подданный становится обязанным повиноваться завоевателю, ни тому, что такое завоевание, ни пониманию того, каким образом факт завоевания обязывает людей повиноваться законам завоевателя, то для полного удовлетворения людей по этим вопросам я говорю, что момент, в который человек становится подвластным завоевателю, есть тот момент, когда, имея свободу подчинить себя, он ясно выраженными словами или другими достаточными знаками выражает свое согласие стать подданным завоевателя. Когда именно наступает тот момент, в который человек свободен отдать себя в подданство – об этом я говорил раньше, в конце гл. XXI, – а именно что для того, кто имеет по отношению к своему прежнему суверену лишь обязанности обыкновенного подданного, этот момент наступает тогда, когда средства его существования находятся под охраной в гарнизонных городах врага, ибо это именно тот момент, когда подданный уже не получает защиты от своего прежнего суверена, а получает эту защиту за свою контрибуцию от противной партии. Ввиду того поэтому, что такая контрибуция как нечто неизбежное считается везде законной (несмотря на то, что она является помощью врагу), то нельзя считать незаконным полное подчинение, являющееся лишь помощью врагу. Мало того, если принять во внимание, что те, которые подчиняются, помогают врагу лишь частью своего состояния, между тем как те, кто отказывается подчиняться, помогают ему всем своим состоянием, то нет основания считать подчинение врагу или примирение с ним помощью, а вернее, причинением убытка ему. Если же кто-нибудь помимо обязанностей подданного взял на себя еще новую обязанность солдата, то такой не имеет свободы подчиняться новой власти, пока старая власть удерживает свои позиции и дает ему средства существования на фронте или в гарнизонных городах. Ибо в этом случае солдат не может жаловаться на недостаток защиты и средств к существованию, какие подобают солдату. Однако если указанных условий нет налицо, тогда и солдат может искать своей защиты там, где он больше всего надеется получить ее, и может законным образом отдать себя в подданство новому господину. И этим мы установили тот момент, когда всякий подданный какого-нибудь суверена может законным образом отдать себя в подданство другому государю, если он желает. Если же он отдает себя в подданство, он, несомненно, обязан быть верным подданным, ибо договор, законным образом заключенный, не может быть законным образом нарушен.
Этим определяется также тот момент, когда можно сказать, что люди завоеваны, а также и то, в чем состоит природа завоевания и право завоевателя. Ибо указанный акт подчинения заключает все это в себе. Завоевание не есть сама победа, а приобретение при помощи победы права над личностями людей. Тот, кто убит, поэтому побежден, но не покорен; тот, кто взят в плен и брошен в тюрьму или закован в кандалы, не покорен, хотя побежден, ибо он остается еще врагом и может еще при случае спастись. Тот же, кому за обещание оказывать повиновение подарили жизнь и свободу, покорен и становится подданным тогда, но не раньше. Римляне обычно выражались, что их полководец замирил такую-то провинцию, то есть, если сказать по-нашему, покорил ее. И страна считалась замиренной победой, если ее население обещало imperata facere, то есть исполнять все то, что римский народ ему прикажет. Это означало быть покоренным. Но это обещание могло быть или словесным, или молчаливым. Словесно – путем ясно произнесенного обещания, молчаливо – при посредстве других знаков. Так, например, если человек, от которого не требовали такого ясно выраженного обещания (по причине, может быть, его невысокого общественного положения), открыто живет, однако, под защитой завоевателя, то считается, что он подчинился власти последнего. Если же такой человек живет на завоеванной территории тайно, то он подлежит всем тем карам, которым могут быть подвергнуты шпион и враг государства. Я не говорю, что он совершает своим тайным проживанием нечто противозаконное (ибо явно враждебные акты не носят этого имени), а говорю лишь, что он может быть подвергнут смертной казни. Точно так же, если человек находится вне своей страны, когда последняя завоевана, то он не считается покоренным и не является подданным. Но если он по возвращении домой подчинился власти завоевателя, то он обязан повиноваться последнему. Завоевание, таким образом (чтобы дать определение этого понятия), есть приобретение верховной власти путем победы. И это право приобретается актом подчинения людей, то есть в силу их договора с победителем, при котором они обещают повиновение за дарованную им жизнь и свободу.
В гл. XXIX я установил как одну из причин распада государств их несовершенное образование, заключающееся в отсутствии абсолютной и произвольной законодательной власти, в силу чего гражданский суверен не всегда может пускать в ход меч правосудия, как если бы этот меч был слишком накален, чтобы его можно было держать. Одна из причин этого явления (о которой я не упомянул в указанной выше главе) есть то обстоятельство, что все гражданские суверены стремятся оправдать ту войну, посредством которой их власть была впервые достигнута, и что они полагают, будто их право зиждется именно на завоевании, а не на владении. Как если бы, например, право королей Англии зависело от правоты дела Вильгельма Завоевателя и от их происхождения от него по прямой линии. Если бы все дело было в этом, то в наше время, пожалуй, нигде в мире ни один подданный не был бы обязан повиноваться своему суверену. И, оправдывая без нужды, таким образом, свою власть, гражданские суверены этим оправдывают все удачные восстания, которые честолюбие может когда-либо поднять против них и их преемников. Поэтому одним из моментов, могущих принести смерть какому-нибудь государству, я считаю то обстоятельство, что завоеватели требуют, чтобы люди не только подчинялись им в будущем в отношении своих действий, по также одобрили бы прошлые действия самих завоевателей, между тем как вряд ли есть какое-нибудь государство в мире, начало которого можно было бы по совести оправдать.
А так как слово тирания означает не более и не менее чем слово верховная власть, будь то одного человека или многих людей, с тем только отличием, что первое название дает понять, что те, которые его употребляют, сердиты на властителей, которых они называют тиранами, то я полагаю, что терпимое отношение к явной ненависти к тирании есть терпимое отношение к ненависти к государству вообще, что является другим моментом, не менее пагубным, чем вышеуказанный. Ибо для оправдания дела завоевателя необходимо в большинстве случаев порицать дело покоренных, но ни то, ни другое не входит в обязанность покоренных. И это то, что я считал нужным сказать при обзоре первой и второй частей этого трактата.
В гл. XXXV я достаточно показал на основании Писания, что в государстве евреев сам Бог был сделан сувереном в силу Завета, заключенного им с народом, который поэтому был назван особым народом, в отличие от остальных народов мира, над которыми Бог царствовал не в силу их согласия, а благодаря Своему собственному могуществу; точно так же я показал, что в этом царстве Моисей был наместником Бога на земле и что он именно сообщил евреям те законы, которыми Бог заповедал им руководствоваться. Но я не указал там, кто в этом царстве были органами исполнения, особенно при уголовных наказаниях. Я считал тогда этот вопрос не столь существенным, каким я его нахожу сейчас. Мы знаем, что обычно в государстве обязанность приведения в исполнение уголовных наказаний возлагалась на стражей или других солдат суверена или поручалась тем, коих бедность в соединении с презрением к чести и жестокосердием побуждала добиваться такой должности. Однако у израильтян существовал положительный закон Бога, их суверена, согласно которому (закону) всякий, изобличенный в уголовном преступлении, должен был быть побит до смерти камнями всем народом, причем первыми должны были бросить камень свидетели, а затем остальной народ.
Это был закон, который устанавливал, кто должен быть исполнителем, но не в том смысле, что кто-либо мог бросить камень в преступника до суда и приговора, произнесенного народным собранием, которое являлось судьей в уголовных делах. Свидетели, однако, должны были быть заслушаны до того, как они приступили к исполнению, за исключением тех случаев, когда преступление было совершено в присутствии самого собрания или на глазах законных судей, ибо тогда не требовалось никаких других свидетелей, кроме самих судей. Тем не менее этот процессуальный порядок, будучи не совсем верно понят, способствовал возникновению опасного мнения, будто в некоторых случаях человек может убить другого по праву рвения, как будто в древнее время преступники подвергались смертной казни в царстве Божьем не но приказанию суверена, а по праву частного рвения. Ибо если мы продумаем тексты, подтверждающие как будто с первого взгляда такое предположение, то убедимся, что они говорят обратное. Во-первых, когда левиты напали на народ, сделавший золотого тельца и поклонявшийся ему, и убили три тысячи человек, то это было сделано по повелению Моисея, получившего, в свою очередь, соответствующее приказание от Бога, как это явствует из книги Исхода 32, 27. И когда сын женщины в Израиле совершил богохульство, то те, которые слушали это, не убили его, а привели его к Моисею, который заключил его под стражу, пока Бог не произнес приговора над ним. И опять (Числа, 25, 6, 7), когда Финеес убил Зимри и Хазву, то это не было сделано по праву частного рвения. Преступление убитых было совершено на глазах собрания: тут не требовалось никаких свидетелей: закон был известен, а совершивший убийство был явным наследником верховной власти. Но самое важное то, что закономерность его акта зависела целиком от последующей санкции Моисея, в которой Финеес не имел основания сомневаться. И такая презумпция будущей санкции иногда бывает необходима для безопасности государства. Так, например, если где-нибудь неожиданно вспыхивает восстание и кто-нибудь, не уполномоченный на то ни законом, ни специальным поручением, имеет возможность собственными силами подавить его там, где оно начинается, то он может это законным образом делать и позаботиться о том, чтобы его самовольные действия были санкционированы или прощены в процессе их совершения или по их завершении. Точно так же ясно сказано в Числах, 35, 30: если кто убьет убийцу, то он должен убить его по словам свидетелей. Свидетели же предполагают формальное судопроизводство, и, следовательно, это место осуждает тех, кто претендует на jus zelotarum (право рвения). Закон Моисея относительно того, кто совращает в идолопоклонство (то есть к отказу от верноподданства в царстве Божьем), запрещает прикрывать такого и предписывает обвинителю потребовать для него смертной казни и первым бросить в него камень, но не убивать его до тех пор, пока он не осужден. И во Второзаконии, 17, 45, 6, точно описывается процесс против идолопоклонства. Ибо Бог здесь говорит к народу как судья и приказывает ему, чтобы в том случае, когда человек будет обвинен в идолопоклонстве, был тщательно расследован факт, и если он окажется верным, данный человек был побит камнями, но рука свидетеля должна и в данном случае бросить первый камень. Это не частное рвение, а официальное осуждение. Точно так же, если отец имеет буйного и непокорного сына, то закон гласит (Второзаконие, 21, 18), что он должен привести его к судьям города, и все жители города должны побить его камнями. Наконец, именно на основании этих законов, а не на основании частного рвения был побит камнями святой Стевен, ибо, перед тем как он был отведен на казнь, он защищал свое дело перед первосвященником. Ни во всех приведенных до сих пор цитатах, ни в другой части Библии нельзя найти ничего, что подтверждало бы законность казней из частного рвения. И такие казни, являясь часто лишь результатом сочетания невежества и страсти, противоречат как принципу справедливости, так и интересам мира в государстве.
В гл. XXXVI я доказал, что не сказано, в какой форме Бог говорил сверхъестественным образом с Моисеем. Это не значит, что мы не находим в Библии указаний, что Бог говорил с ним иногда путем снов и видений и путем сверхъестественного голоса, как с другими пророками. Ибо та форма, в которой Бог говорил с ним с покрышки кивота Завета, ясно описана в Числах, 7, 89, в следующих словах: с этого времени и впредь, когда Моисей в ходил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, он слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между двух херувимов, и он говорил ему. Но нигде не сказано, в чем состояло преимущество той формы, в которой Бог говорил с Моисеем, перед той, в которой Он говорил с другими пророками, как, например, с Самуилом, с Авраамом, с которыми Он тоже говорил посредством голоса (то есть посредством видения). Разве только разница состояла в степени яркости видения. Ибо слова лицом к лицу и устами к устам нельзя понимать буквально, принимая во внимание бесконечность и непостижимость божественной природы.
А что касается учения в целом, то я пока лишь вижу, что его принципы правильны и точны, а мои умозаключения основательны. Ибо я основываю гражданскую власть суверенов и долг и свободу подданных на известных естественных склонностях человеческого рода и на пунктах естественного закона, которых никто, считающий себя достаточно умным, чтобы уметь управлять своей семьей, не может не знать.
А что касается церковной власти тех же суверенов, то я обосновываю ее такими текстами, которые ясно говорят сами за себя и находятся в согласии с целью всего Писания. Поэтому я убежден, что тот, кто будет читать мой трактат лишь с целью почерпнуть из него знания, эти знания получит. Что же касается тех, кто своими литературными или устными публичными выступлениями или значительными практическими действиями уже обязался поддерживать противоположные мнения, то они не будут так легко удовлетворены. Ибо в таких случаях для людей естественно, что по мере хода чтения у них все больше и больше слабеет внимание к содержанию книги, сосредоточиваясь целиком на поисках возражений против того, что уже прочитано. А таких возражений не может не быть много в такое время, когда интересы людей меняются (ввиду того что многие из тех учений, которые служат для установления нового образа правления, по необходимости должны противоречить тем, которые способствовали упразднению старого).
В той части, которая трактует о христианском государстве, имеются некоторые новые идеи, которые в государстве, в котором окончательно установились противоположные взгляды, может быть, были бы преступлением, как узурпация места учителя со стороны подданного, не имеющего разрешения на провозглашение новых идей. Однако в наше время, когда люди ищут не только мира, но и истины, предлагать вниманию тех, которые еще раздумывают, такие учения, которые я считаю истинными и которые явно способствуют водворению мира и лояльности, значит лишь предлагать новое вино, которое должно быть влито в новые бочонки, с тем чтобы и то и другое могло сохраниться. И я предполагаю, что, когда новое учение не порождает никакой смуты и никакого беспорядка в государстве, люди не настолько склонны благоговеть перед древностью, чтобы предпочитать старые ошибки новой и вполне доказанной истине.
Самое большое недоверие я питаю к своему изложению, которое, однако, как я уверен, не является темным (разве лишь вследствие опечаток). То обстоятельство, что я, отступив от обычая авторов последнего времени, пренебрег прикрасить свое изложение цитатами из древних поэтов, ораторов и философов (хорошо ли это или плохо), обусловлено следующими соображениями. Прежде всего, истина всякого учения имеет своим основанием разум или Писание. На том и на другом основании зиждется влияние многих писателей; но сами они не получают своего значения от какого-либо писателя. Во-вторых, трактуемые мной вопросы суть не вопросы факта, а вопросы права, в которых нет места для свидетельских показаний. В-третьих, вряд ли найдется хоть один из древних писателей, который не противоречил бы как самому себе, так и другим, что делает свидетельство этих писателей неудовлетворительным. В-четвертых, такие мнения, которые берутся на веру у древних писателей, не являются по существу взглядами тех, которые их цитируют, а лишь словами, которые (подобно зевоте) передаются от одного к другому. В-пятых, весьма часто люди с мошенническими целями утыкают свою гнилую теорию гвоздиками остроумия других людей. В-шестых, я не нахожу, чтобы древние авторы, которых современные авторы цитируют, считали украшением для своих произведений цитаты из авторов, которые писали до них. В-седьмых, когда не разжеванные греческие и латинские изречения выходят снова изо рта неизмененными, как это обыкновенно бывает у тех, кто их цитирует, то это свидетельствует о несварении желудка. Наконец, хотя я уважаю тех людей древности, которые или сами открыли и в вразумительной форме изложили нам истину, или указали нам лучшие пути, как нам самим ее найти, однако к древности как таковой я не считаю себя обязанным относиться с особенным почтением. Ибо если речь идет об уважении к возрасту века, то наш век является самым старшим по возрасту. Если же речь идет об уважении к древности писателей, то я не уверен, что те, которым воздается такая честь, были, как общее правило, более стары, когда они писали свои сочинения, чем я, когда я пишу свое. Однако внимательное рассмотрение показывает, что восхваление древних авторов вытекает не из уважения к умершим, а из конкуренции и взаимной зависти живых.
Резюмирую. Насколько я могу видеть, нет ничего во всем этом трактате, как и в том, что я писал на ту же тему по-латыни, что противоречило бы как слову Божьему, так и правилам добропорядочного поведения, а также нет ничего, что могло бы способствовать нарушению общественного спокойствия. Вот почему я думаю, что было бы полезно этот мой труд напечатать, а еще полезнее было бы изучать его в университетах, если с ним согласны те, кто призван судить о таких вопросах. Ибо раз университеты являются источником политических и моральных учений, из которых проповедники и дворянство черпают такую воду, какую они находят, с тем чтобы окропить ею людей (как с кафедры, так и в своих беседах), то необходимо, конечно, проявить величайшую заботу о том, чтобы эта вода оставалась чистой как от яда языческих политиков, так и от чар лживых духов. И таким путем большинство людей, зная свой долг, будет менее расположено быть орудием честолюбия немногих недовольных лиц в их планах против государства и с меньшим раздражением будет относиться к податям, необходимым для поддержания мира и организации защиты государства, а сами правители будут иметь меньше повода содержать за счет государства большую армию, чем необходимо для обеспечения свободы государства против вторжений и захватов иноземных врагов.
И таким образом я довел до конца мой трактат о гражданской и церковной власти, поводом к которому послужили переживаемые нами беспорядки. Трактат этот свободен от всякого пристрастия, от всякого заискивания и не имеет другой цели, как лишь показать людям воочию взаимоотношения между защитой и повиновением, ненарушимого соблюдения которого требуют состояние человеческой природы и божественные законы (естественные и положительные). И хотя революции в государствах не являются благоприятной констелляцией при рождении истин такого рода (ибо они имеют сердитый аспект со стороны разрушителей старого порядка и видят только спину тех, которые строят новый), однако я не могу думать, чтобы развитые мной положения были осуждены в настоящее время государственными судьями учений или кем-либо, желающим сохранения мира в государстве. И в этой надежде я возвращаюсь к моим прерванным работам о естественных телах, в отношении которых (если Бог даст мне здоровье, чтобы довести мои работы до конца), как я надеюсь, новизна идей в такой же мере доставит удовольствие, в какой новизна в отношении этого искусственного тела обыкновенно оскорбляет. Ибо истины, не сталкивающиеся с человеческой выгодой и с человеческими удовольствиями, приветствуются всеми людьми.